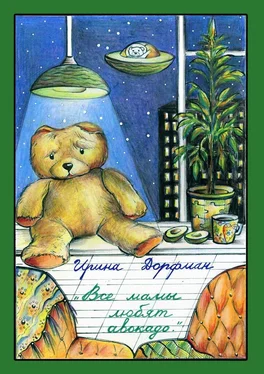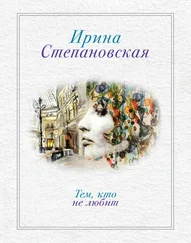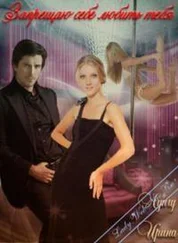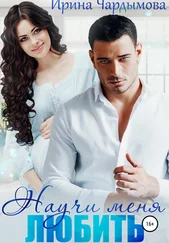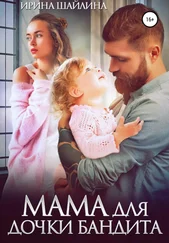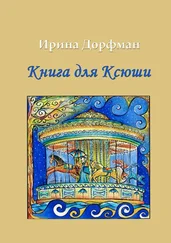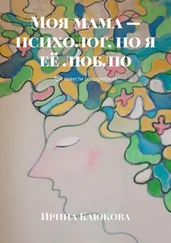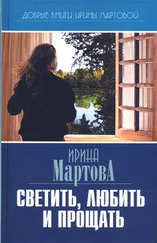Такие беседы по душам – это то, что мне больше всего нравится в родительстве. То, ради чего я готова терпеть всё остальное, неприятное – рутину, несвободу, необходимость ежедневного тупого насилия над ребенком. Но такие беседы и заставляют еще и еще раз пересматривать основы своих убеждений. Чтобы в них не вкралось ничего лишнего, вредного или безосновательного. Чтобы они были внутренне логичны, тогда они будут убедительны и для ребенка. И, как и неверующие люди, он задается вопросом – а что же будет с теми, кто не знал о Христе? Я объясняю о совести как голосе Бога в душе человека. А сама в очередной раз с горечью думаю о своих неверующих родственниках.
И приходит в голову такой образ. Конечно, лучше всего для спасения быть добросовестным православным христианином (потому что факт крещения и даже факты посещения церкви не ведут нас автоматически к спасению). Но наверняка возможно спастись и как-то по-другому, пусть это и менее надежно. Например, самый надежный способ благополучно родить ребенка – сделать это в хорошо оборудованном роддоме с помощью хороших врачей и акушерок. Но многим удается благополучно родить просто дома с помощью акушерки, хоть это и рискованно, и вообще ненадежно.
Или вот что еще обычно мешает прийти к вере – ощущения жестокости и несправедливости жизни. У каждого умер кто-то близкий, и это было совершенно несправедливо. Но нам не дано знать, что стало с этим близким после смерти (может, что-то гораздо лучшее, чем его здешняя жизнь), и не дано знать, как бы он жил, если бы тогда не умер. Мы вообще знаем слишком мало, чтобы судить.
Это как, например, двое играли бы в шахматы и подошел бы третий, который не знает правил. Он бы не понял, зачем съедать фигуры и убирать с доски. У играющих есть цель, есть план ее достижения. Но третий не знает ничего этого. И все его суждения будут неверными.
Или вот еще к вопросу о том, за всяким ли важным действием в этом мире стоит решение Бога. Или что-то происходит «само», без его «разрешения» – люди сделали, а Бог ничего уже с этим сделать не смог. Я сама себе очень плохо представляю, как именно Богу удается все контролировать, когда столько людей, и они творят, что хотят. Но вот такой образ пришел в голову.
Когда мы дома украшаем елку, дети вешают игрушки хаотично. Часто на одной ветке рядом висит пять игрушек, а на другой – ни одной. Потому что они не видят елку в комплексе, а смотрят только на конкретную ветку и думают, что туда можно еще что-то повесить. И я потом часто потихоньку перевешиваю игрушки, чтобы они не оттягивали кончик ветки вниз, не сваливались, и вообще были более равномерно распределены по елке. Вот и Бог, наверное, ходит вокруг нас, и перевешивает за нами игрушки. Потому что он лучше видит елку целиком. А мы думаем, что это мы сами всё делаем.
***
В 9 лет вернулись к разучиванию тропаря. Первую строчку Коля упорно модифицирует так: "Правило веры и образ КРУТОСТИ".
Флажки на карте, вездеходы и фонетический разбор
Поздний вечер рабочего дня. Ксюша (11 класс, готовится поступать на филологический): «Как думаешь, нормальный фильм посмотреть или про Бенкендорфа?».
Другой вечер был посвящен изучению географии. Чтобы немножко отдохнуть, Ксюша решила отметить флажками на карте все города, где кто-то из нашей семьи был. Решили отмечать только те места, где был хотя бы кто-то один из нас пятерых, а путешествия бабушки с дедушкой игнорировать. Ксюша разглядывает Кольский полуостров, пытается вспомнить, какие города они посещали во время многочисленных водных походов. Коля тоже крутится возле карты, помогает.
– Венецию не забудь!
– Венеция – это не город, а страна, – поучает младшего братишку старшеклассница.
С географией у нас с Ксюшей традиционно не очень (я тоже понятия не имею, где какие города и страны), и ее многочисленные путешествия не исправляют ситуации. Путешествия сами по себе, географические карты тоже сами по себе. Если она подумает, то, конечно, вспомнит, что Венеция сейчас все-таки город. Под страной она имела в виду Италию.
Карта висит над диваном, поэтому Коле лучше видна нижняя часть. Он внимательно разглядывает Австралию, ему попадается никому из нас не ведомый город:
– А в Хобарде кто-нибудь был?
***
Это были трудовые будни. А как проводила одиннадцатиклассница свои единственные осенние каникулы (только теперь, когда у Коли двое осенних каникул и двое зимних, стало понятно, как неудобно и несправедливо, что у других детей каникулы раз в сезон – как в советской школе)? Пересмотрела экранизацию «Войны и мира» (параллельно выполняя задание по литературе – выписывая в тетрадь характеристики всех персонажей в пьесе «На дне») и после долгих и мучительных раздумий взялась за просмотр экранизации «Тихого Дона» аж в 14 сериях! Это при том, что летом она его полностью прочла.
Читать дальше