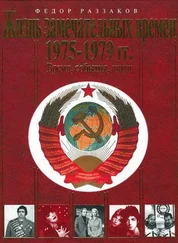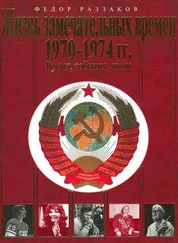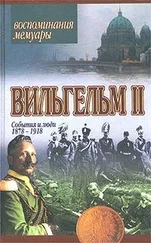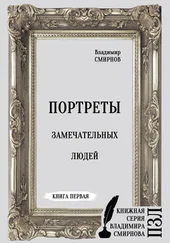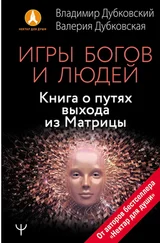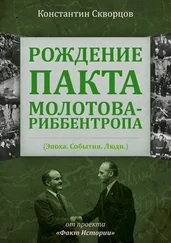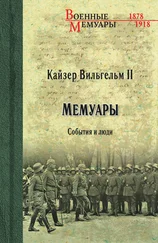Но о планах (многие из них писаны вилами по воде) рассказывать не буду. Поэтому скажу о… хризантемах, которые я купил после работы, чтобы вручить их «хорошей» Анне. Хризантемы – чудные такие, бардовые, с зеленым пятнышком в центре (впрочем, я слабо разбираюсь в цветах и цветокоррекции, могу напутать) – пахли нежной горечью всю дорогу. Люди в метро оборачивались на меня и смотрели то ли с сочувствием, то ли с завистью.
Забегая вперед, признаюсь, что такие же чувства нахлынули на меня после поэзии, прозвучавшей лично для меня неожиданно мощно и трогательно.
Раньше со стихами Золотаревой я не был знаком, то есть, вы понимаете, что чудо, связанное с открытием нового автора, мне еще предстояло испытать. Что, собственно, и произошло. Анна прекрасна – рыжая, в очках, тонкие пальцы, глубокий голос, к которому почему-то сразу возникает доверие.
Вечер проходил в библиотеке иностранной литературы. У нас с Таней особое отношение к этому, можно сказать, намоленному месту, поскольку еще недавно мы выступали там, правда, в другом зале.
Серый ковролин на полу, такого же цвета стены, ну, может быть, чуть светлее, окно до потолка, форточка приоткрыта. За окном Москва – жужжит, мурчит, заливается электрическим светом. Стулья для слушателей расставлены уютным полукружьем, в центре которого два красных кресла, белый столик с двумя микрофонами, две небольшие бутылочки воды «Сенежская».
Выступающих было двое. Место рядом с Анной занял Антон Дубин. Как оказалось, Антон составлял программу мероприятия. И, нужно сказать, что, будучи музыкальным журналистом, он, составитель, сделал это виртуозно. Программа слушалась и воспринималась как музыкальная пьеса, причем драматургически выверенная, поскольку Анна вела диалог с тремя удивительными поэтами: Борисом Дубиным, Сергеем Морозовым и Олегом Юрьевым – увы, уже оставившими этот мир.
«Это не мемориальный вечер, – отметил сразу Дубин. – Это вечер Ани. Я очень сожалею, что ей не удалось пообщаться с моим отцом». Из троих поэтов, произведения которых представлял Антон, Анна была знакома только с Олегом Юрьевым, с которым она познакомилась незадолго до его ухода.
По задумке авторов, программа должна быть неделимой композицией, в которой каждое стихотворение живет своей собственной жизнью. Так оно и произошло.
По привычке я старался записывать на листочках отдельные фразы звучащих стихотворений. Мне практически всегда это удавалось, а тут – я вдруг утратил все свои навыки скорописания. Да и к тому же попробуй угонись за музыкой, звучащей как классическое произведение, неистово и глубоко. Я не только не успевал водить ручкой по бумаге, не успевал вздохнуть. Настолько увлекло чтение Антона и Анны. Это был диалог. Антон после каждого прочитанного им стихотворения называл не только автора, но и год написания, что звучало вполне логично и казалось неотъемлемой частью композиции. Диалог получался достаточно многогранным: молодая красивая женщина вела разговор не только с тремя мужчинами, она беседовала со временем, с эпохой – 60-е годы, 70-е, 80-е… При этом не было ощущения, что настоящее спорит или что-то хочет доказать ушедшему. Нет! Стихи Дубина, Морозова и Юрьева звучали так же современно, ярко и остро, как и Анны Золотаревой.
«Пьяно немотствует совесть» (Борис Дубин), «Не все неси книгопродавцу, себе оставь стишок другой» (Сергей Морозов), «Я проснусь на заре от стыда и злобы» (Олег Юрьев).
Может, их объединяло острое чувство одиночества?
«Мы – провинциалы Вселенной», «Привыкая к уплотненной неотзывчивости» (Анна Золотарева).
Стихи читались без пауз, одно за другим. Ритм, ритм, ритм! Вот за окном с ревом проехал мотоцикл. И тут же Анна как ответ на этот рев: «На Первомайскую выходит люд веселый, за ними время…» И все – мотоциклист уже стал иллюстрацией к стихотворению.
Может быть, это был спиритический сеанс? Разговор живого с неживым? Нет! Живая разговаривала с живыми. Они – Борис, Сергей, Олег (возможно, их уместнее называть по имени-отчеству?) – были живыми в своих стихах.
Четыре поэта. Звенья композиции цепляются одно за другое – словом, образом, чувством.
«Для какой-то нужды уцелел на земле» (Сергей Морозов), «Страшно сказать, меня насилует все… – деликатность и чувство справедливости. Ради радости» (Анна Золотарева), «Ластонька милая…» (Олег Юрьев), «Шмель дуралей» (Анна Золотарева), «Голубь, что ли, бродит по карнизу…» (Борис Дубин).
Показалось, что по мере чтения с читающими происходила трансформация – голоса Антона и Анны звенели, звучали все отчетливей и отчетливей, выделялось каждое слово. Выделялось и тут же уплывало… Какие-то изменения происходили и во мне – слушателе. Я будто чувствовал их физически, я будто терял реальность, с меня будто сняли одежду, я будто бродил голышом-босиком по серому ковролину.
Читать дальше
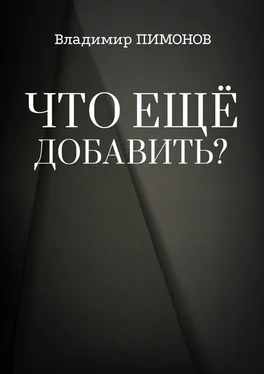
![Николай Попов - Открывая новые страницы... [Международные вопросы - события и люди]](/books/32300/nikolaj-popov-otkryvaya-novye-stranicy-mezhdunar-thumb.webp)