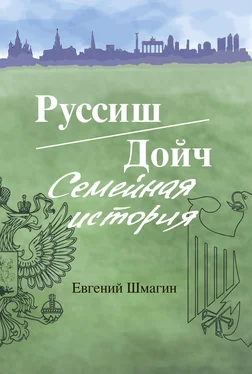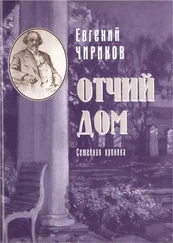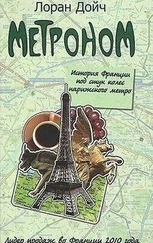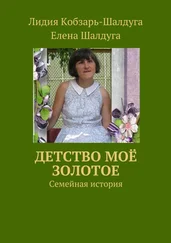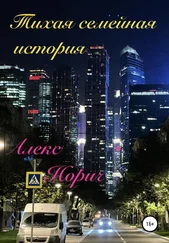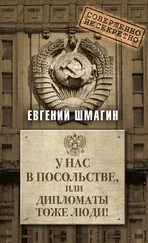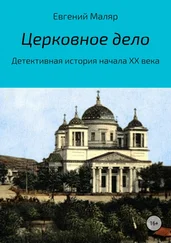– А к чему вся канитель эта? – судили-рядили. – Жили деды и прадеды наши без школы-грамоты, и жили нас не хуже, так и мы проживём век свой без их… На кой ляд нам науки ихние? Как земельку пахать да зёрна разбрасывать, знаем и без гимназий. А пустишь детёв по образованной части, так они вырастут и паче чаяния с дома
сбегут, работать не станут. А как без них хозяйство справлять? Нет уж, спасибочки.
Игнатию Ильичу подход такой был чужд.
– Недоумеваю, отчего в русском народе доподлинного понимания насчёт грамотности нету, – заключал он. – Ну, с девками-то ясно, у них своя судьба, везде и всегда одна и та же – детей рожать, пищу готовить, в церковь ходить. А вот мужицкому полу грамота надобна, как без неё в будущем-то? Отрокам моим должно вырасти людьми образованного класса.
Мечтал Игнат, чтобы превзошли сыновья его самого в умении, в знаниях, в благополучии жизни, и пытался внести в дело то благородное свою лепту. С малых лет учил он родного Максимушку плотницкому и столярному мастерству, а потом, когда времечко подоспело, пытался привить охоту к деревообработке и младшему сынишке. И ведь получалось у обоих. Не мог отец не нарадоваться, как быстро схватывают они искусство пилить и строгать.
– По меньшей мере по этой части подрастают у нас с тобой, Авдотьюшка, наследники бравые, – с гордостью вещал Игнат. – Максим во всяком случае пойдёт далеко. Достались ему не только руки золотые. Не обделил Господь его ни внешностью, ни умом. Смекалистый, чёрт! Ты только, мать, погляди, вчера начали возиться над комодом, так сын взараз столько всего навыдумывал, что я чуть не лёг, такое мне и в голову придти не могло. А какие грабли сварганил! Диво дивное, да и только! На базаре в Кудыщах вмиг расхватают.
В восемь лет отдал Игнат сынишку в церковно-приходскую школу, что при Воскресенском монастыре в Кудыщах. По утрам, особенно зимой, коли была возможность, возил тятька на санях Максима на занятия. А после уроков добирался тот обратно домой самостоятельно – в любое время года, и в дождь, и в мороз, – и чаще всего пешедралом.
Путь был не из лёгких – ноги мять приходилось ни много ни мало восемь вёрст. Напрямик, по бездорожью, правда, получалось меньше. Да вот только пробираться
меж деревьев больно боязно было. Да и сбиться с проложенного и освоенного маршрута тоже не хотелось, темнело в зимнюю пору раненько. А на большаке можно было всё-таки иногда подсесть к кому-нибудь в телегу и скостить таким образом часть пути. Так или иначе, ради школы Максим был готов пойти на любые жертвы и ухищрения.
Учёба давалась ему легко. Все предметы были по душе, и русский с чистописанием, и история с географией, и даже закон божий. Но всё-таки в любимых числились арифметика с черчением, страсть как нравилась ему игра цифр и линий. А на занятиях по труду, где мальчуковую часть учили столярке, а девочек домоводству, не было Максиму равных не только среди сверстников.
Сам учитель чуть ли не кланялся способному ученику, каких у него не было ни до того, ни после. На вручении свидетельства об окончании курса начальной школы Игнату Ильичу настойчиво рекомендовали продолжить обучение неординарного юноши.
– Поверьте, дорогой папаша, молодёжь нынешняя брехливая измельчала ужасно. А дети такие, как чадо ваше, появляются на свет божий крайне редко. Видать, по каким-то неизведанным причинам избрал Господь именно вас объектом для сией награды. Гордиться вам отпрыском своим необыкновенным надобно. И негоже будет, коль встанет сын ваш на иной путь взросления и совершенства, кроме как наукопостижение. Мы, во всяком случае, благословляем Максима Игнатьича на дальнейшее покорение высот познания.
Посоветовавшись с супругой Авдотьей, решил старший Селижаров так и поступить. Ради блага сына пошёл он на великое пожертвование для хозяйства своего, ибо лишалось оно одной важной единицы рабочей силы. В 12 лет определили Максима в реальное училище в Осташкове.
Взять-то его взяли (ещё бы не взять с таким похвальным листом), да вот с «фатерой» для жилья заминка вышла. Жили в столице уезда родственники селижаровские, но никто не отваживался пустить паренька на постой, все и без того ютились в крошечных хибарках, а то и землян-
ках. Через пень-колоду удалось-таки уговорить в конце концов двоюродного брата Авдотьи.
Осташков во все времена слыл городом кожевенников и рыболовов. Главным или, как сказали бы через сто лет, градообразующим предприятием значился знаменитый кожевенный завод, существовавший уже почти полтораста лет. В своё время посещал завод сам император Александр I. Слаженное производство, в том числе дорогущие, ибо непромокаемые хромовые сапоги «осташи», которые покупали даже англичане, одобрил, да остался доволен не всем. «Нельзя ли, Кондратий Лексеич, – обращался он к владельцу предприятия Савину, – хотя бы снизить градус этого амбре, несёт-то на всю округу изрядно».
Читать дальше