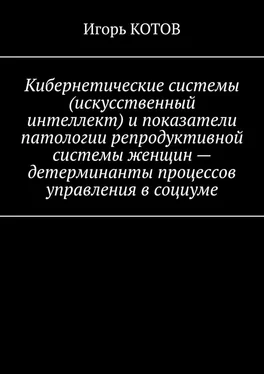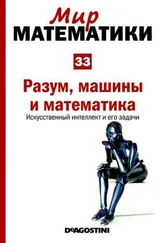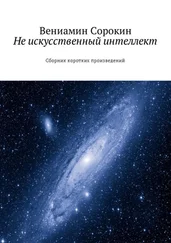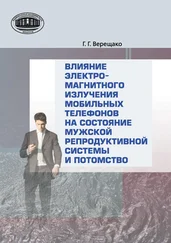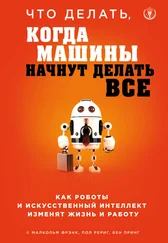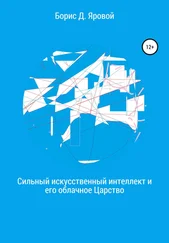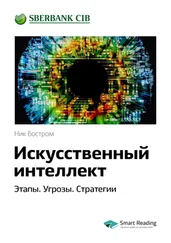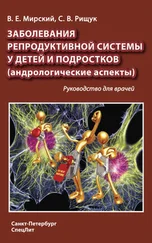Рисунок 3
Говоря о возможном сползании нашего государства в криминальное государство, можно сослаться на выступление Председателя Конституционного суда В. Д. Зорькина 10 декабря 2010 г.: «Свой анализ, я хочу посвятить нарастающей криминализации российского общества. Увы, с каждым днем становится все очевиднее, что сращивание власти и криминала по модели, которую сейчас называют „„кущевской““, не уникально. То же самое или нечто схожее происходило и в других местах: в Новосибирске, Энгельсе, Гусь-Хрустальном, Березовске и т. д. Всем, и профессиональным экспертам, и рядовым гражданам очевидно, что в этом случае наше государство превратится из криминализованного в криминальное. Граждане наши тогда поделятся на хищников, вольготно чувствующих себя в криминальных джунглях, и недочеловеков, понимающих, что они просто пища для этих хищников. Хищники будут составлять меньшинство, а „„ходячие бифштексы““ – большинство. Пропасть между большинством и меньшинством будет постоянно нарастать. По одну сторону будут накапливаться агрессия и презрение к лузерам, которых должно резать или стричь. По другую сторону ужас и гнев несчастных, которые, отчаявшись, станут мечтать вовсе не о демократии, а о железной диктатуре, способной предложить хоть какую-то альтернативу криминальным джунглям» [67]. Таким образом, председатель Конституционного суда констатирует, что организованная преступность сильнее нынешнего государства, поскольку выработала эффективную модель сращивания с властью и с бизнесом в антисоциальную хищную силу.
По мнению Кара-Мурза С. Г., 2013: «’«Сословие»» предпринимателей формировалось в России не только неправовым и антисоциальным способом захвата и распределения общенародной собственности, но и на уродливой мировоззренческой матрице. Успешное формирование капитализма (хотя и ««не без кровопивства»», как выражался Салтыков-Щедрин) удавалось, только если предпринимательство было ограничено жесткими этическими нормами (как протестантская этика в Западной Европе, конфуцианство в Японии и Китае, совсем недавно – буддистской этикой в Таиланде). И все равно эти страны переживали и переживают волны массовой ««беловоротничковой»» преступности. А в России 1990-х годов предпринимательство с самого начала загнали в жесткие рамки уголовной этики. Она действовала независимо от личных предпочтений или нравственных идеалов отдельного предпринимателя – именно как ««невидимая рука»» российского рынка» [96]. И такая ситуация не могла не отразится на психическом состоянии населения РФ. Так профессор Коссов В. В. обращает внимание на то, что коллективный эгоцентризм превратился в своеобразный уклад, формирующий не только индивидуальную нравственность, но также и экономику, и политику всей страны. Причем эгоцентризм отнюдь не совпадает с индивидуализмом, на котором, собственно говоря, и базируется демократическое общество. Эгоцентристская парадигма исходит из исключительности и абсолютности интересов данного индивида. Индивидуалистическая парадигма признает равенство интересов всех вовлеченных агентов действия. Именно эгоцентрическая парадигма, по мысли В. В. Коссова, наиболее полно объясняет нынешнее состояние России как социокультурной системы [124]. Поэтому в значительной степени кризис России есть не что иное, как тупик эволюции ее нравственности [183].
По словам Сорокина П. А., реформа «не может попирать человеческую природу и противоречить ее базовым инстинктам». Человеческая природа каждого народа – это укорененные в подсознании фундаментальные представления о добре и зле, которые уже не требуется осознавать, поскольку они стали казаться «естественными». Изменения в жизнеустройстве народа в России в 1990-е годы именно попирали эту «природу» и противоречили «базовым инстинктам» подавляющего большинства населения. Перемена устоявшихся порядков всегда болезненный процесс, но когда господствующие политические силы начинают ломать всю систему жизнеустройства, это наносит народу столь тяжелую травму, что его сохранение ставится под вопрос. Целые социальные группы в таком состоянии перестают чувствовать свою причастность к обществу, происходит их отчуждение, новые социальные нормы и ценности отвергаются членами этих групп. Неопределенность социального положения, утрата чувства солидарности ведут к нарастанию отклоняющегося и саморазрушительного поведения [Кара-Мурза С. Г., 2017].
Читать дальше