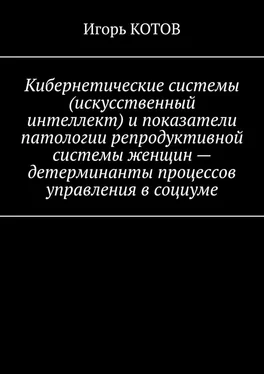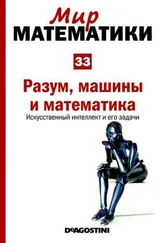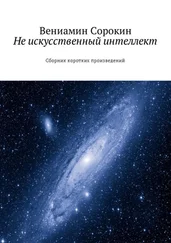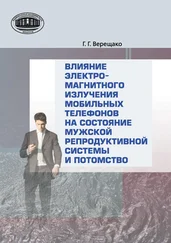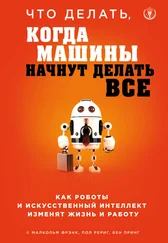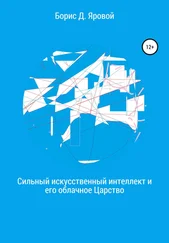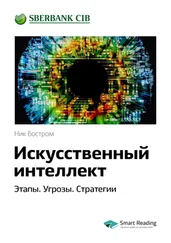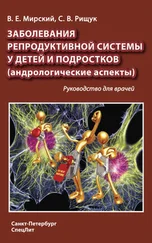– на этом фоне наблюдается, казалось бы, странный в нынешнее «цивилизованное» время, но вполне объяснимый рост преступности, поразивший не только «серые зоны» современного мира, но и вполне благополучные общества;
– переизбыточность информации, 80% которой практически оказывается не востребованной в силу своей ненужности и которую уже вполне можно уподоблять загрязнению окружающей среды. Эта информация остается «неубранной», необработанной, в том числе в силу гипертрофированной специализации научного знания, в результате чего теряется связь целого;
– торжество прагматизма, деидеологизированной рациональности, «эффективности», «профессионализма» как высших добродетелей (за которым скрыта, в общем то, немудрящая погоня за материальными благами), что ведет к заметному понижению нравственного уровня в обществе, особенно в его верхних эшелонах;
– как следствие – распространение «пиара», уверенность управленцев, менеджеров, средств массовой информации и других, что все проблемы можно решить «промывкой мозгов» (для постсоветской России рисунок 1) [21].

Рисунок 1
По мнению Г. Х. Попова: «Так же, как сама природа капитализма обязательно включала эксплуатацию, а природа государства бюрократического социализма включала невозможность собственного научно-технического прогресса, так и постиндустриализм (глобализация) неотделим от коррупции и уже стала и будет одной из главных составляющих утверждающегося на нашей планете и в России нового строя» [180]. «Коррупция уже не представляет собой локальную проблему, а превратилась в транснациональное явление, которое затрагивает общество и экономику всех стран», – Преамбула Конвенции ООН против коррупции.
1.2 Особенности криминализации постсоветской России
С позиций социологии, криминализация – это социальный дезорганизационный процесс, представляющий угрозу трансформирующемуся обществу, характеризуемый институционализацией и воспроизводством преступности в обществе и влекущий за собой изменение его институциональных основ. То есть в отличие от отраслевых дисциплин права, социология направлена на изучение социального аспекта проблемы, поэтому она принимает во внимание взаимодействие преступности и общества в процессе криминализации, социальные причины, последствия этого процесса.
Процесс криминализации Российского общества положил свое начало с главного действия постсоветского государства – в России была приватизация общенародной (государственной) собственности, начавшаяся в 1992 году. «Приватизация по-российски» носила преимущественно номенклатурно-криминальный характер. В ходе приватизации основным механизмом формирования крупного и среднего российского предпринимательства стала конвертация советских номенклатурных связей в собственность и ресурсы. Это подтверждает и ее главный организатор Анатолий Чубайс: «В чем политическая конструкция? Политическая конструкция в том, что мы отдали собственность тем, кто был к ней ближе. Бандиты, секретари обкомов, директора заводов. … И наши „„новые русские““ они либо из старого советского директората, со всеми его минусами и плюсами. Либо из бывших кооператоров и всяких прочих коммерсантов от перестройки (комсомольских и партийных деятелей). Либо из представителей бывших региональных политических элит» [145, 146].
В отчете о большом Всероссийском исследовании (май 2006 г.) так определяется статус приватизации как социального факта: «Самым существенным моментом в экономических, а стало быть, и в социальных, преобразованиях в России в последние пятнадцать лет явилось кардинальное изменение роли частной собственности в жизнедеятельности российского социума. Именно ее утверждение в качестве базовой формы собственности означало переход от одной общественно-экономической формации (так называемый ««развитый социализм»») к другой (олигархический капитализм)». Именно на ее основе была осуществлена небольшой группой номенклатурных чиновников экспроприация собственности государства и денежных средств населения». Это «самое существенное» действие развело в нравственном плане государство и большинство населения на две расходящиеся дороги. Уже в 1994 г., еще в ходе приватизации, наблюдалось важное явление – непримиримое неприятие приватизации сочеталось с молчанием населения. Многие тогда замечали, что это молчание – признак гораздо более глубокого отрицания, чем протесты, митинги и демонстрации. Это был признак социальной ненависти, разрыв коммуникаций – как молчание индейцев во время геноцида. И это естественно. «… Ибо люди скорее простят смерть отца, чем потерю имущества», – Никколо Макиавелли.
Читать дальше