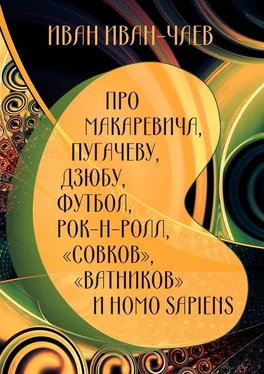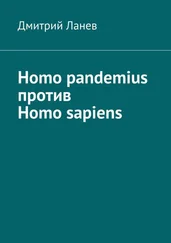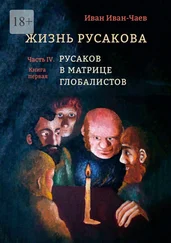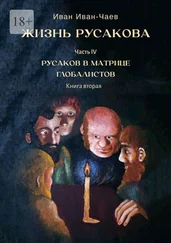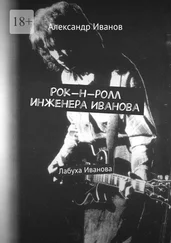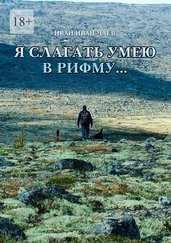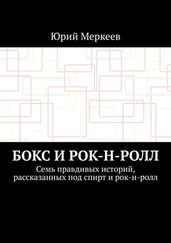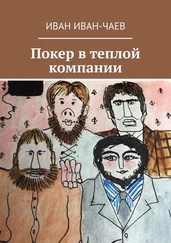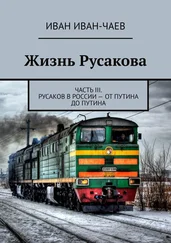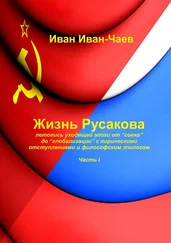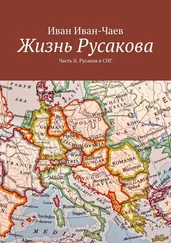Таких причин, дорогой Читатель, несколько. С одной стороны в уже выпущенной мной трилогии «Жизнь Русакова» описаны события в России и мире за период с 60-х годов ХХ века по 2018 год. Материалы настоящей книги (хоть и с перекрытием временного интервала, описанного в «ЖР»), но захватывают также период вплоть до конца 2020 года. Таким образом, этот опус с определенными допущениями может служить неким продолжением, своеобразной четвертой частью «Жизни Русакова».
Еще одной причиной является дань памяти очень близкому мне человеку, который трагически ушел от нас в конце 2019 года… Надо сказать, что для книги я в основном отобрал статьи, претендующие на некую аналитику. Однако одна из них («Россия в лицах: предновогодние встречи…») – это просто рождественская зарисовка, принадлежащая перу моего безвременно ушедшего друга.
Наконец, последнее. В процессе написания и особенно печатания своих предыдущих опусов в «Ридеро», я был настолько очарован ощущениями от держания в руках свежей, яркой и пахнущей типографской краской книги (причем – своей книги!), что не смог отказать себе в удовольствии испытать это чувство еще раз. К тому же, многие мои знакомые с гораздо большим удовольствием читают именно напечатанные книги, чем их электронные версии. Ну и, потенциальная возможность расширения аудитории за счет именно читателей книг – тоже не сбрасывалось мной со счетов.
Да, и еще одна важная вещь. Глядя на свои первые статьи, я уже не могу отделаться от мысли – насколько они эмоциональны и наивны по сравнению с более поздними опусами. И какие-то вещи мне бы очень хотелось из них убрать, значительно пересмотреть или исправить. Однако, в данной книге я решил придерживаться того же принципа, что и при написании «Жизни Русакова». Это ведь мои мысли и ощущения именно на тот момент времени. Тем они в общем-то и ценны, как и эволюция взглядов того или иного человека. Поэтому и здесь я решил оставить всё как есть – со своей наивностью или даже некоторыми заблуждениями. Надеюсь, для читателей наблюдать за трансформацией взглядов автора тоже будет интересно.
Ну, вот, собственно и все, что мне хотелось сказать. Желаю всем приятного чтения!
Глава 1. От Макаревича до футбольных «ультрас»: истоки смычки либерального и национального радикализма
Применительно к ситуации на Украине, многие люди называют «фашистами» разных людей – Макаревича и украинских (да и наших нередко) футбольных «ультрас». В нынешнем расхожем понимании «фашизм» ничего общего не имеет с его классическим определением: просто говоря, «фашизм» – это идеология, позволяющая некой социальной группе считать себя исключительной по отношению к другим, а также считать себя в праве решать судьбу более низших, по их представлению, людей. Такой «фашизм» (или, назовем его мягче – радикализм) может произрастать на любой почве – национальной, религиозной, имущественной. Насаждаться справа, слева, сверху или снизу. Самый главный его трюк, это не опора на объективное неравенство людей (по физической силе, интеллекту и т.д.), а совершенно необоснованное самопровозглашенное «право» отдельных групп считать себя «высшими существами». Впрочем, необоснованное ли? Ведь у каждой, даже самой одиозной идеи, должны быть некие предпосылки, корни. В этом мы и попытаемся разобраться с нашей дилетантской колокольни.
Как получилось, что такие, казалось бы, разные люди как «рокер» Макаревич и некоторые футбольные «ультрас» смогли оказаться в одной лодке?
На мой взгляд, общее у этих групп следующее: во-первых, корни их оформления уходят в СССР и, во-вторых, в основе их возникновения лежит внешне вполне нормальное стремление выделиться из «серой массы».
Как они появились?
В 70-е годы ХХ века официальная эстрада в СССР была довольно скучна и уныла. Несмотря на наличие качественных исполнителей (Кобзон, Лещенко, «Песняры» и т. д. и т.п.), сами исполняемые ими песни не содержали никакого «драйва». Да, они могли быть мелодичны, могли нести высокое «гражданское звучание», национальный колорит, но вот чем-то привлечь тогдашнюю молодежь получалось не очень… Прекрасно помню свою собственную реакцию, когда на гибкой пластинке из популярного тогда музыкального журнала «Кругозор» услышал битловскую «Can, t buy me love»! Это был просто шок – разве можно ТАК петь!!! Это был невероятный, захватывающий драйв, даривший подростку какую-то совершенно потрясающую энергию после убаюкивающей советской эстрады. Естественно, играть рок-н-ролл тогда пытались все – во дворах, дома, в студенческих общагах и на танцах. В основном, конечно, копировали известных западных исполнителей. Советских групп, играющих на «западный манер», было немного и, в подавляющем большинстве, они были «подпольные» и непрофессиональные. В сравнении с западными аналогами, играли они довольно слабо (в том числе, из-за отсутствия нормальных инструментов и звукозаписывающей аппаратуры), но пытались брать другим – нетривиальными текстами. И в этом среди других групп, безусловно, очень выделялся Андрей Макаревич с «Машиной времени».
Читать дальше