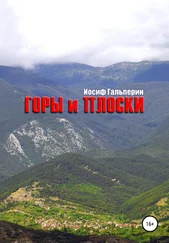Повзрослел и всерьез начал бояться войны – одновременно, осенью 1962 года. Самый холодный ветер холодной войны, охладивший первородный детский оптимизм, – ракетный ветер карибского кризиса. Не помню, откуда я узнал про ультиматум Кеннеди, про то, что не надо верить твердым голосам советского радио, но помню, как ходил по ветреному городу, время, казалось, растягивалось, перекручивалось и утончалось, как ириска. Я пристально всматривался в следы реактивных самолетов (хотя как отличить «свою» газовую струю от «чужой»?), на моих глазах размывавшихся из нанесенных тонкой кисточкой упругих линий в какие-то веники, и ждал, что с неба посыплются бомбы.
Решение вывести с Кубы ракеты, о которых еще день назад говорилось, как о злостной выдумке буржуазной пропаганды, преподносилось как большая победа в борьбе за мир. С кем борьба – с собой? И я возненавидел Хрущева даже не за блатную ложь, не за хитрож…ую тупость, а за то, что он, не задумываясь, подставил под ядерный гриб миллионы людей, ни у кого не спрашиваясь. А Кеннеди стал казаться мне таким же смелым, прямым и веселым, как мой отец. Поэтому я так плакал год спустя, когда убили молодого американского президента, и так радовался два года спустя, когда убрали Хрущева. Даже заорал под государственный металл дикторского голоса: «Ура!»
Поэтому и следующих за Хрущевым правителей принял поначалу с доверием, пока они тоже не начали говорить о происках «империализьма» и чуть не втянули нас в арабо-израильский конфликт. Хотя, надо признаться, и самому хотелось вмешаться во вьетнамскую войну со всей пассионарной силой юношеского стремления к переменам, особенно – к наведению справедливости…
Войну взрослые вспоминали по-разному. И я сопереживал, ощущая в себе страх повторения рассказанного. Женщины, с которыми по малолетству я общался чаще, говорили о теплушках, о скученности и вони. Мама – о жизни в совхозе в заснеженной степи, об умирании на ее четырнадцатилетних руках моей родной бабушки, которую я никогда не видел, об обидах и доброте тех, с кем она делила свою юность. Бабушка – об одесской степи 41-го, о стерне, в которую вжимал ее голову мой шестнадцатилетний папа, заслоняя собой от «Юнкерсов», налетевших на их последний уже эшелон.
Отец об этом не вспоминал. Рассказывал всякие забавные случаи: например, как они с фрицами из одного леска на нейтральной полосе таскали сучья на дрова, или как чуть не утонули в винном подвале шляхетского замка в Западной Белоруссии.
Не скрывал он и собственного страха, описывая 2 мая 1945 года, когда на него, отправленного чинить «гитару» (деревянную крестовину, к которой крепились провода), выскочил из засады «фердинанд». Скорее всего, самоходка поджидала, расщепив «гитару» первым выстрелом, ремонтника-телефониста, только вот у немцев в Восточной Пруссии к тому времени уже кончались снаряды – и бронемашина лупила по двадцатилетнему худому солдатику бронебойными болванками, как бы приравнивая его к себе. Он метался по дюне на берегу Куршской косы, болванки шипели рядом, зарываясь в песок, и было особенно обидно погибать в дни, когда всем уже была видна победа. Отец ее встретил контуженным.
О двух других фронтовиках, с которыми меня, дошкольника, познакомил тридцатилетний папа, я давно написал стихотворными строками. Пытался внятно описывать и рассуждать в поэзии. Не уверен, что получились стихи, но мысли свои я выразил – потому и долго не мог напечатать. Печатающие – боялись. А мне писать было не страшно, а сладко, вроде бы восстанавливал гармонию, нарушенную теми встречами.
Первой была история нашего с отцом похода через несколько улиц к папиной сотруднице по газете, у которой муж оказался полковником кавалерии в отставке. Он – как мне казалось – старался геройски выглядеть перед мальчишкой, а может, сам хотел смотреть на себя глазами случайного непредвзятого пацана. Показывал штыки, кортики и сабли, висевшие на ковре, меня поразили тяжелые тусклые ножны, по моей просьбе он дернул эфес – а клинок-то был обломанным. Потом во дворе выстрелил из какого-то маленького карабина (может, боевого, но кавалерийского?) и разрешил мне прижать его к плечу… Через двадцать лет я написал «Обломок»: «Он был полковник кавалерии, оседланный большой женой…». Меня убеждали опытные литучителя, что я ничего не понимаю в подвиге старшего поколения, а я-то писал о том, как быт и мелочность бытия обламывают людей, мчавшихся в атаку.
И вторая история была, наверное, о цене поступков и цене жизни. О безногом комбайнере Прокофии Нектове, которого привел к нам в гости отец. Целина, целинный хлеб в долго голодавшей (а потом, после небольшого перерыва, продолжившей недоедать) стране. И солдат, на войне потерявший обе ноги и ставший Маресьевым не голубого воздушного океана, а земных огромных полей пшеницы. Конечно, отец об этом писал очерк, пусть даже не упоминая цену хлеба, но держа ее в подсознании. Только вот во дворе нашего барака за дощатым столом они с Нектовым пили водку не за это – а за непонятные мне тогда (и теперь уже не узнаваемые) фронтовые дороги, на которых одни напрочь теряли ноги, а других пощадили неразорвавшиеся снаряды.
Читать дальше