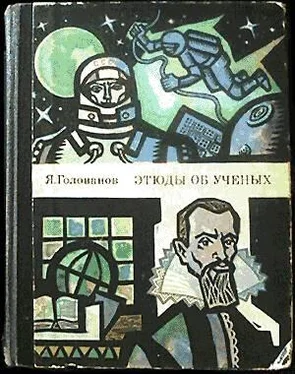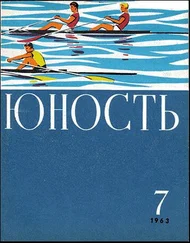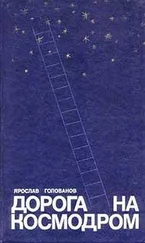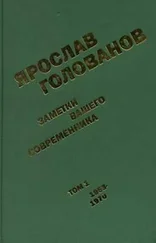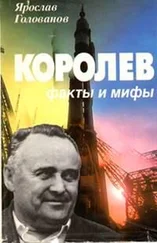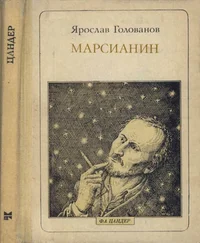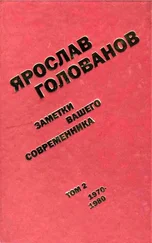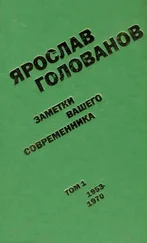Впрочем, современники отмечают, что характер Бутлерова всегда был неровным, часто жизнерадостность сменялась задумчивостью. Он не любил одиночества, никогда не уединялся, а когда работал дома, был рад, если из других комнат слышались музыка и детский смех. Была в нём какая-то энергичная непоседливость, но не суетливая, а живая, весёлая. Даже став профессором, всемирно известным учёным, не сделался он эдаким солидным академическим снобом, не приобрёл ту младенческую рассеянную отрешённость, ту лукавую наивность, когда в каждом взгляде и жесте человек как бы говорит: «Ну, право же, я не виноват, что я такой гениальный». Бутлеров был великим учёным, очень мало похожим на «великого учёного».
Интересно, что, даже окончив университетский курс, он не стал химиком, и диссертация его была посвящена бабочкам Волги и Урала. Химию он любил, но не более. В нём не было страсти молодого Лавуазье, который буквально бредил химией. Бутлерова она лишь интересовала. Интерес этот разбудил Николай Николаевич Зинин – родоначальник гигантской русской химической школы. А. Гофман сказал: «Если бы Зинин не сделал ничего более, кроме превращения нитробензола в анилин, то имя его и тогда осталось бы записанным золотыми буквами в истории химии». Очевидно, если бы Зинин позднее уехал из Казани в Петербург, Бутлеров скорее стал бы химиком.
Но это случилось, когда Бутлеров был лишь на третьем курсе. Он всю жизнь считал Зинина своим учителем, но тогда нить их научных связей оборвалась. Профессор химии Карл Клаус (кстати, он впервые выделил новый химический элемент, названный в честь России рутением), может быть, первый разгадал в нём химика, рекомендовав оставить Бутлерова, которому не было ещё двадцати двух лет, при кафедре химии для подготовки к профессорскому званию. Так «начался» Бутлеров.
Уже наш современник, итальянский профессор Микеле Джуа пишет в своей «Истории химии»:
«…период около 1860 года был для химии поистине вулканическим; он изобиловал молодыми химиками, одарёнными критическим умом и относившимися с энтузиазмом к исследовательской работе.
К длинному списку уже упомянутых химиков следует добавить Бутлерова, который понял важность определения строения соединений, ввёл термин «структура» для обозначения взаимной связи между атомами и утверждал, что структура вместе с составом определяет физические и химические свойства соединений».
Бутлеров создал теорию строения органических веществ, без которой современная органическая химия, биохимия, химическая физика, генетика не могли бы существовать. Если можно так сказать, химию «плоскостную» он сделал «объёмной», создал мир новых химических измерений, показал, как в этом мире становится объяснимо то, что вчера ещё нельзя было объяснить. Труды Бутлерова, как труды любого великого учёного, принадлежат всему миру.
Но есть нечто, что ставит его в особое положение в русской науке. Химия наша пошла от Ломоносова, который, кстати сказать, при всей своей энциклопедической многогранности сам себя считал химиком. Но школы Ломоносова не существует. Бутлеров был первым, кто, приняв от Н. Зинина химическую эстафету, положил начало школы русских химиков, по определению Д. И. Менделеева, «бутле-ровской школы», дал толчок необыкновенной цепной реакции, в которой из поколения в поколение множились таланты. Один из биографов Бутлерова справедливо замечает, что «к школе Бутлерова принадлежат, за малым исключением, все русские химики». Зинин – Бутлеров – Марковников – Каблуков – Фаворский – Зелинский – Несмеянов – сотни учеников Несмеянова – тысячи будущих химиков, которых готовят эти ученики, превратившиеся в учителей, – вот оно, могучее, ветвистое древо знаний, живущее уже вторую сотню лет, беспрестанно и щедро плодоносящее!
А ещё любил Александр Михайлович пчёл. Да не просто любил, а был крупнейшим в этом деле знатоком; и если бы была такая книга – «История пчеловодства» (а может быть, она есть?), то в ней о Бутлерове написано было бы не меньше, чем в «Истории химии». Часами просиживал он подле сделанного по его чертежам улья со стеклянной стенкой, наблюдая за жизнью пчелиной семьи. Пчелы ползали по его лицу, лысине, гудели в бороде, но это вроде бы и не мешало ему. Целые дни проводил он на пасеке.
К концу жизни все более интересовался он сельским хозяйством, покупал сеялки, бороны, плуги, приваживал крестьян к технике. Утро дня своей смерти встретил он в поле у новой сеялки. Зерна ещё не проклюнулись, когда его уже похоронили. Глупая смерть… Ещё в петербургской квартире тянулся за книгой на полке, упал со скамеечки, порвал мышцу под коленом, запустил, хромал, потом лечился, но опухоль осталась. Оттуда и пошёл тромб, убивший его. Глупая смерть…
Читать дальше