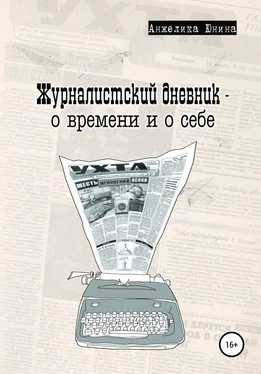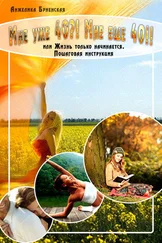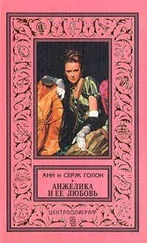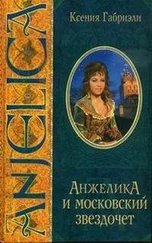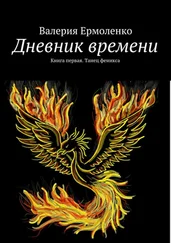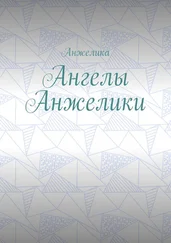Строки из письма:
«Всю жизнь работала на 2–3 работах. Получала хорошо. Теперь нет здоровья».
Этот материал дался мне непросто. Тогда я сотрудничала с социальными службами города. Там хорошо понимали, что наступили нелегкие времена, хотели привлечь внимание общественности. Видимо, чиновники всерьез опасались, что единичные случаи отказов от детей могут стать массовыми. В статье я привожу цифры:
«В приюте на одно питание требуется немало средств. Это означает, что откажут комуто из очень нуждающихся. Средства выделяются скудные. После постановления Совета Министров Республики Коми «О создании единого механизма в системе социальной защиты населения» вздохнули было спокойно. Ведь по нему остро нуждающимся гражданам республики должны были доплачивать до прожиточного минимума – то есть до 42 тысяч на каждого ребенка. Однако, почувствовав, какие миллиарды понадобятся, чтобы претворить это постановление в жизнь, в министерстве пошли на попятную. Сегодня доплачивают лишь до минимального размера оплаты труда. Отгадайте сколько? 14620 – и ни копейки больше.
В отделе по делам семьи мне показали картотеку, в которой каждое дело – это крик о помощи. Сразу же выложили пачку дел, в которых рассказывается как раз о семьях, вынужденных жить на это грошовое пособие. Тоже работающие матери с двумя, а то и тремя детьми. Так не сдать ли и их в приют?
Татьяна сказала только одну понятную мне фразу: «Меня все осуждают в посёлке, говорят: хоть мы и голодные, но зато дети при нас. Наверное, они могут смотреть на своих голодных детей, а я не могу».
Но, согласитесь, странно слышать эту слёзную исповедь от женщины, которая приобрела в счет зарплаты бартерный телевизор и потому денег на заводе не получает, которая честно признается, что есть в её доме вещи ненужные, но не продаёт, надеясь сбыть подороже. А детишек хочет оставить в интернате, чтобы заняться коммерцией…
P. S. Пока верстался номер, матери дали добро на оформление старшей дочери в интернат. Младшую она согласилась взять домой, вот только надолго ли…».
Намеренно даю эту статью с сокращениями и изменением всех имен. Дела давние. Времена были непростые, как, впрочем, все годы, начиная с перестройки. Но статья имела большой общественный резонанс. В редакцию пришло письмо, и мы, посовещавшись, решили его опубликовать, ведь это была яркая иллюстрация – мироустроение в России рушится, надо чтото делать.
«Тварь я дрожащая, или Право имею?
Мы, работницы завода «Прогресс», прекрасно знаем Татьяну О. и хотим встать на защиту её и самих себя. То, что она сделала, – это её право, а вот почему она это сделала и именно сейчас, на 9м году «перестройки», давайте проанализируем, хотя много можно задать «почему?»: упала рождаемость, стали питаться хуже дети, мы почти все попали за «черту», нет уверенности в завтрашнем дне.
Почему Таня и все мы могли себе позволить рожать двоих, троих, и было чем кормить, одевать, одеваться самим, покупать мебель, ездить каждый год в отпуск и чаще к морю? Таня, как и многие другие, работала так тяжело, что вы себе и представить не можете, но она и получала так, что смогла обставить свою новую бесплатно полученную квартиру. А теперь вы предлагаете продать все, а коекто советует продать и квартиру и снова жить в коммунальной малосемейке? Всё это получалось для дочерей, для их будущего, ведь теперь они всего этого не смогут заработать никаким трудом.
Ну, продаст она, всё проедят, а дальше? Кто ответит на этот вопрос? И кто за это ответит?
Пусть она объяснит своим дочерям, что пока это единственный выход не быть голодными. А насчет интеллекта: те, кто учился в институтах, жили за счет того, что Таня работала, делала своими руками продукцию. А ктото в это время учился бесплатно в техникумах и вузах. Нет, еще и стипендию получали.
И не надо из нее делать монстра, потерявшего материнские чувства.
Наоборот, она спасает своих детей. Мы не уверены, что завтра не сделаем то же самое. Всего 12 подписей».
Для меня эта публикация, конечно, была неприятна, но я уже тогда понимала, что для газеты важна не констатация факта, а обратная связь, диалог, который делает издание живым. В то время не было соцсетей, где можно посчитать лайки и комментарии. И такого рода письма помогали понять, есть ли отклик.
Газета «Ухта» в то время была действительно рупором мнений. На её страницах обсуждали самые насущные вопросы экономики, политики, местного самоуправления. Во многом активной и принципиальной газета была благодаря главному редактору Александру Ивановичу Красавицкому, который возглавлял ее с 1989 года, на протяжении без малого 15 лет. Долгое время он был депутатом Совета города. И может, поэтому мы не испытывали особого давления со стороны властей.
Читать дальше