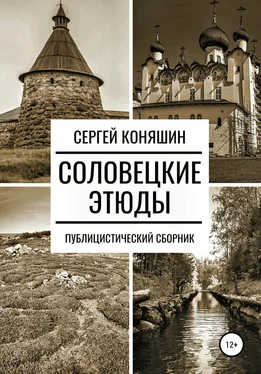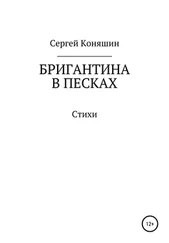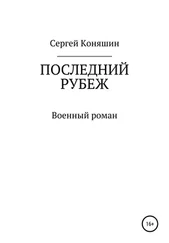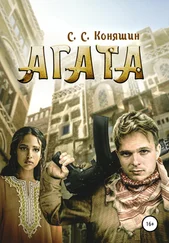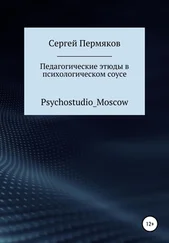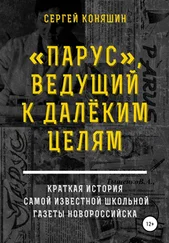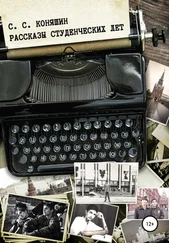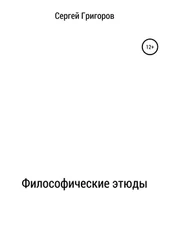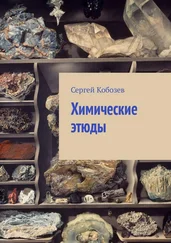Кстати, первой песней, которую я спел под гитару своей будущей жене Ноэми, стала «На Соловецких островах…» известного архангельского барда Валентина Ивановича Вихорева (род. в 1931 г.):
На Соловецких островах – дожди, дожди.
Ну как расскажешь на словах, как льют дожди?
В конверт письма не уложить – ветра, шторма…
Нет, надо просто здесь пожить. Ты приезжай сама!
Ноэми, кубинка по происхождению, понятия не имела, что это за острова и где они находятся, но песня ей – даже и в моем безыскусном исполнении – очень понравилась.
Май 2020 г.
Этюд 3. «Записки на парте»
Июльские и январские Соловки как будто не имели ничего общего между собой, словно это были две совершенно разные страны на противоположных концах земного шара. Зимой на островах все оказалось полностью покрыто снегом. В трехметровых сугробах тонули неприглядные руины обрушившихся монастырских построек, разбросанные вдоль побережья остовы лодок и катеров, груды мусора и многое другое, что летом раздражало и огорчало взыскательные взгляды туристов и благочестивых паломников.
Покосившиеся двухэтажные бараки, не всегда успешно выполнявшие роль жилых домой, временами оказывались заметены снегом по самую крышу. Еще страшнее, чем летом, в сумраке полярной ночи взирал на одиноких прохожих своими выбитыми и местами обугленными глазницами зловещий остов разрушенной гостиницы «Преображенской» у центрального причала Соловецкого поселка.
Второй наш приезд пришелся на зимние каникулы. На этот раз времени подготовиться к поездке было больше. Немного заявив о себе в МГИМО после летней экспедиции, члены ТО «Соловки» уже пользовались некоторым авторитетом среди руководства факультета МЖ, его кафедр и преподавателей. Поэтому конвертировать скромную популярность в снисходительное отношение во время сессии (к тому же при деятельной поддержке Владимира Львовича) оставалось лишь техническим вопросом.
В январе 2003 года на Соловках нас встретил аккуратный деревенский аэродром, окруженный безупречной белизной нетронутых сугробов и крошечных запорошенных, будто сахарных, домиков. На километры вокруг не было ни соринки. Царила торжественная звенящая тишина. Невыразимое великолепие подчеркивали обросшие алебастровым инеем стены Соловецкого кремля (летом они показались нам огненно-рыжими от покрывших их мхов и лишайников).
Зимой, когда еще больше, чем летом, захватывало дух от неповторимой возвышенной красоты, острова обнажили перед нами свои новые проблемы, которые в июле не так сильно бросались в глаза. Летом в поселке было полно людей. Сутки напролет в любое время дня и ночи мотались туда и сюда многочисленные туристские группы или одинокие энтузиасты. При администрации, в музее, в монастыре, в библиотеке и прочих центрах культуры обязательно работали какие-нибудь гуманитарные, исторические, социальные и прочие отряды. Многие из них, кстати – тоже студенческие, вроде нашего. Не все из них из Москвы. Нередко встречали мы на кривых грунтовых соловецких улочках своих коллег-единомышленников из Питера, Петрозаводска и Архангельска.
На досках объявлений и столбах пестрели листовки о выставках, кружках и секциях дополнительного образования. Летом много кто был готов заниматься с соловецкими детьми, а у тех и глаза разбегались. Хотя не у всех, конечно. Лишь у тех, у кого были хоть как-то разбужены любознательность, интерес к широкому миру и вообще желание что-нибудь делать. Остальные и в это благословенное время скучали от безделья, уставившись днями напролет в телевизор (смартфонов еще не было), как будто им ничего не было нужно. А нужно-то им было, откровенно говоря, намного больше, чем их сверстникам на материке.
Восемь месяцев в году – в зимний период, когда останавливалось судоходство – острова оказывались почти полностью изолированы от Большой земли. Редкие рейсы крошечного самолета из Архангельска не могли в полной мере прорвать суровую природную блокаду. Поселок со своими жителями как будто закрывался сам в себе в ожидании следующего лета. Переживаемая всеми от мала до велика ограниченность общения, отсутствие ясной жизненной перспективы да и попросту неустроенность быта делали соловчан нелюдимыми и малообщительными. Местные дети страдали от островной замкнутости намного сильнее, чем взрослые.
В полной мере мы столкнулись с этим лишь зимой, когда оказались вынуждены проводить большую часть рабочего времени в поселковой школе. Других доступных для нас мест, где имелся хотя бы письменный стол и возможность поработать в тепле, на острове не было. Завязались добрые отношения с директором и учителями. Практически сразу же к нам потянулись и дети. Сперва больше из любопытства – что за неизвестные молодые люди ходят здесь с ноутбуками (тогда еще диковинными для некоторых)?
Читать дальше