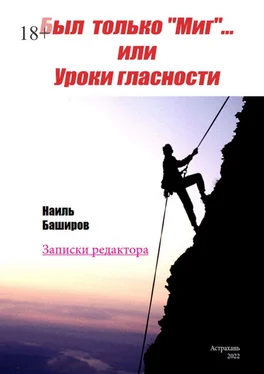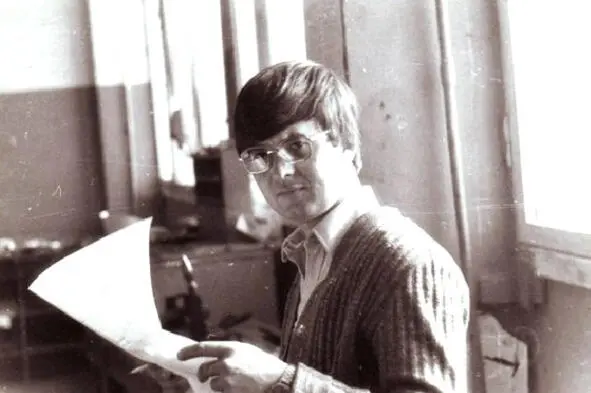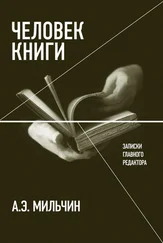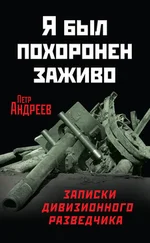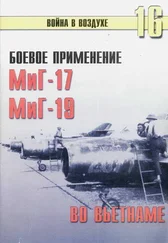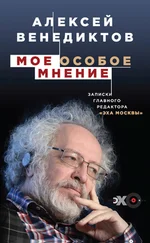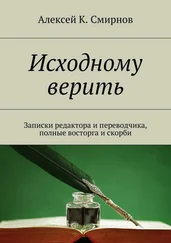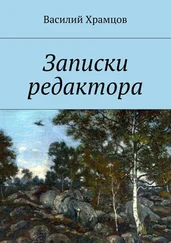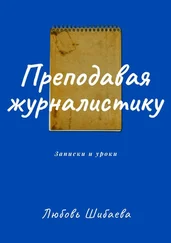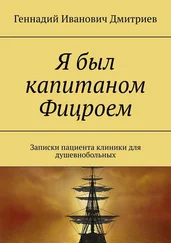Отдельно набирались заголовки, тоже целая наука. На макете до сдачи в производство следовало точно рассчитать количество букв в заголовке, иначе при вёрстке заголовок «выпадал». Кстати, позже у меня выработалось умение после произнесения слова тут же говорить, сколько в нём букв. Сегодня, в век компьютерных технологий, потребность в этом умении отпала, и лишь изредка за дружеским застольем ради шутки удивляю собеседников.
Особые требования предъявлялись к фотографиям, с которых методом цинкографии изготавливались клише. Надо заметить, что в типографии «Волга», где печатался наш «Коммунист Приволжья», верстальный цех находился в одном помещении, линотипный – в противоположном, цинкография и вовсе на другом этаже. Так что приходилось в течение дня бегать из цеха в цех. Фигаро тут, Фигаро там, Фигаро вверх, Фигаро вниз! Выпускающий был тем связующим звеном между различными цехами и отделами типографии, который отвечал за выход газеты. До сих пор помню тот трепет, который испытывал, когда верстальщица тетя Лида (Лидия Ивановна Веремеева) делала первый оттиск.
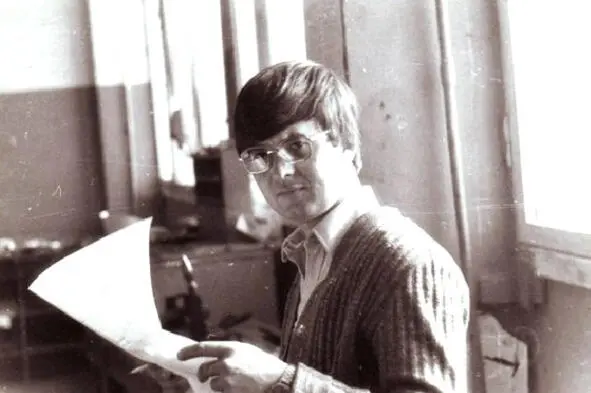
Вот он, лист газетной бумаги, воплотивший в себе труд десятков людей – творческих и технических работников редакции, типографии. Затем оттиск вычитывался. По правилам этим занимались два человека – корректор и подчитчик. Однако частенько приходилось самому читать, вычитывать, сверять. После относил оттиск в соседнее пристроенное здание на 7 этаж – в ЛИТО, так называлась цензура. И лишь после того, как сотрудник Управления по охране государственных тайн в печати (цензор) прочитывал оттиск и ставил свой штамп, газетная полоса имела право поступить в печатный цех. Случалось, что дежурный, не желая ещё раз приезжать в типографию, договаривался с печатником и заранее подписывал чистый лист. Это было страшным нарушением. По каждому такому факту проводилось служебное расследование с соответствующими, как тогда говорили, оргвыводами.
Типография представляла из себя огромное и сложное производство. Это был другой мир. И в нём я каждый раз открывал всё новые и новые секреты газетного дела. Журналисты из других газет, будучи дежурными по номеру, общались между собой, делились профессиональными новостями.
Часто приходил в типографию ночью, чтобы подписать полосы в печать. После приладки плоскопечатной машины брал из рук печатника свежайший номер газеты, бережно держал её в руках и думал: завтра, точнее уже сегодня утром, этот номер возьмут в руки четыре тысячи таких разных читателей, получат кто информацию, кто – импульс к действию. И газета как плод нелегкого коллективного труда внесёт свой очередной и в то же время особенный вклад в улучшение жизни района. Как говорится, мы приближали социализм как могли.
Работа в газете – это прежде всего общение. Порою за день приходится разговаривать с множеством совершенно разных людей, причем, разговор преимущественно строится не на уровне «да-нет», а заинтересованной беседы, обсуждения, попытки анализа. Да ещё надо успевать записывать в блокнот. Тогда же в районке завязались знакомства, которые имели продолжение через многие годы… Иных уж нет, а те – далече.
Размеренная жизнь редакции нарушилась, когда генсеком стал М.С.Горбачев, а новым редактором «Коммуниста Приволжья» Михаил Александрович Анашкин. Пришла перестройка. Михаила Александровича коллектив сначала не принял. Он – бывший парторг татаробашмаковского колхоза «12 лет Октября» (в районе шутливо называли этот отстающий колхоз «12 лет без урожая»), в редакциях никогда не работал, – начал наводить порядки. Трудовую дисциплину в редакции он понимал как работу не с 9 утра, а с 7 часов. Ведь в колхозах и совхозах рабочий день начинался даже с 6 часов. Стал бороться с привычкой работников редакции побаловаться спиртным. В рамках кампании за трезвый образ жизни в редакцию как-то неожиданно нагрянули представители райисполкома Галина Сергеевна Кулышева и Ирина Аркадьевна Козловская. Нос к носу я с ними столкнулся в дверях сельхозотдела, в руке у меня была чашка. Обе уважаемые и строгие женщины одобрительно посмотрели на чашку, давая понять, что, мол, молодец, чай пьёшь. Но они не догадывались, что в чашке было только что налитое вино…
М.А.Анашкин упрямо приучал нас к планированию и отчётности. У меня были ещё свежи воспоминания об опыте бессмысленного планирования в Каспийском мореходном училище. Перед приездом инспектора ЦК КПСС проводилась проверка от обкома КПСС. Звали проверяющую от обкома Ольгой Валерьяновной, фамилии не помню. Она требовала от меня, чтобы я на каждого из полутора тысяч курсантов завёл план индивидуально-воспитательной работы. Мои возражения о том, что, если я даже составлю полторы тысячи планов индивидуально-воспитательной работы, то физически все равно не смогу эти планы выполнить, она категорически отвергала. Мы, привыкшие отвечать за конечный результат – газету, и ради этого ни с чем не считаться, были дезориентированы. Прошли месяцы, прежде чем он убедился в специфике труда газетчика, а мы в правоте его некоторых требований. Но зато он потом со всей присущей ему страстностью взялся за перестройку содержания газеты. Я благодарен Михаилу Александровичу за то, что он научил меня докапываться до сути процессов, происходящих в общественно-политической жизни, экономике района. Правда, суть он видел всегда только с партийных позиций. Мы много спорили, ругались, обижались. Как-то утром ехали вместе на работу и он по-партийному обвинил меня, непартийного: «Я знаю, что ты проповедуешь. Ты – за буржуазную свободу слова!» Его приговор тогда сильно обидел, и я хотел даже уволиться. Сейчас, по прошествии более трёх десятилетий, это обвинение в буржуазной свободе слова кажется смешным, наивным. Сейчас, но не тогда… Хотя произнёс он пророческие слова.
Читать дальше