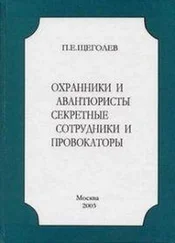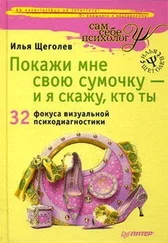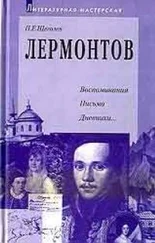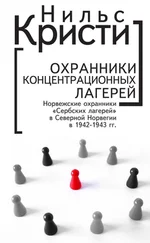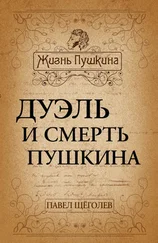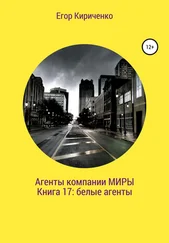Чрезвычайная следственная и Особая комиссии прекратили свое существование в конце ноября 1917 года. За время их деятельности П. Е. Щеголеву удалось проделать огромную работу по сохранению, систематизации и изучению документов архивов учреждений Департамента полиции. После ликвидации комиссий все архивы оказались в руках новой власти. Первые годы ими пользовались некоторые историки и участники революционного движения, позже доступ к ним был прекращен. Но уже сразу после Октябрьской революции многие документы Особого отдела Департамента полиции были опечатаны, и есть основание предполагать, что они остаются до сих пор неизученными.
Полицейская провокация проникла в Россию из Западной Европы в начале XIX столетия почти одновременно с республиканскими идеями будущих декабристов. Провокация быстро пустила корни, но ее росту препятствовало либеральное окружение Александра I, видевшее в ней чрезмерно грязное орудие для поддержания спокойствия в империи. Политический сыск оценил провокацию не сразу — уж очень непривычными казались свойственные ей способы выявления преступников и добывания улик их виновности.
Прочную привязанность к провокации политический сыск приобрел лишь в начале 1880-х годов стараниями жандармского подполковника Г. П. Судейкина. Получив должность инспектора Петербургского охранного отделения, он первый в России наладил массовую вербовку революционеров, попавших в полицейские застенки. В активе инспектора охранки числится много жертв, но особенно прославился Судейкин вербовкой С. П. Дегаева. Около года полицейский агент Дегаев стоял во главе народовольческих кружков, действовавших в пределах Российской империи. С помощью этого провокатора инспектору столичной охранки удалось полностью контролировать действия революционной партии. Судейкин и Дегаев разгромили «Народную волю», в тюрьмах оказались все, кого они сочли нужным туда отправить.
Успех Судейкина вскружил головы сотрудникам политического сыска. Если всех провокаторов, орудовавших в революционных кружках и партиях в 1820–1881 годах, можно пересчитать по пальцам, то начиная с Судейкина их количество увеличивалось в геометрической прогрессии и к Февральской революции достигло сорока тысяч [37] См.: Агафонов В. К. Заграничная охранка. Пг., 1918. С. 203.
. Особенно потрудились на этом поприще С. В. Зубатов и талантливый ученик Судейкина П. И. Рачковский.
Что есть провокация и кто же такие провокаторы?
Слово «провокация» появилось в русском языке в начале XVIII века и, имея латинское происхождение, пришло к нам из польского, немецкого или латинского языков [38] См.: Фасмер К. Этимологический словарь русского языка. Т. 3. М., 1971. С. 372.
. Долгое время слово это в России употреблялось лишь как синоним подстрекательства. С политической полицией понятие провокации начали связывать лишь в 1900-е годы. В энциклопедическом словаре Брокгауза и Ефрона слово «провокация» разъясняется лишь как юридический термин: 1. «<���…> апелляция в уголовных вопросах от магистрата к народу». 2. «<���…> понуждение истца к предъявлению иска, вопреки общему правилу» [39] Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона. Т. 25. СПб., 1898. С. 338.
.
Словарь современного русского языка не дает четкого определения понятий «провокация» и «провокатор» [40] См.: Словарь современного русского литературного языка. Т. II. М.-Л., 1961. С. 980.
. Поэтому предложим следующие определения: провокация есть подстрекание к действию, направленному на достижение целей подстрекателей вопреки интересам подстрекаемого. Провокатор есть подстрекающий к действию, направленному вопреки интересам подстрекаемого (подстрекаемых).
Самым опасным и распространенным проявлением провокации является полицейская политическая провокация. Она заключается в том, что полицейский агент, находящийся в рядах противоправительственного сообщества, выдает его членов, разрабатывает и согласовывает со своим истинным начальством планы действий и в соответствии с ними подстрекает членов этого сообщества к противоправительственным поступкам (выступлениям).
Политические провокаторы бывают двух типов: полицейские агенты, вступившие в состав противоправительственных сообществ, и члены противоправительственных сообществ, завербованные политической полицией. Инструктивные документы рекомендовали вербовать агентов из революционной среды, но жандармские офицеры и штатские сотрудники политического сыска предпочитали работать с секретными агентами, внедренными в противоправительственные сообщества: их знали по предыдущей службе и поэтому доверяли. Но полицейские агенты, внедренные в «обследуемую среду», чрезвычайно редко обладали знаниями и интеллектуальным уровнем профессиональных революционеров. Поэтому охранникам приходилось пользоваться услугами завербованных членов партий. Они вызывали у полицейских подозрение и как согласившиеся на сотрудничество — предателям никто не доверяет, — и как лица, которые могли пойти на сотрудничество, оставаясь верными своим убеждениям и, следовательно, превращались во внедренных в охранку вражеских агентов. Такое случалось не часто, но случалось.
Читать дальше
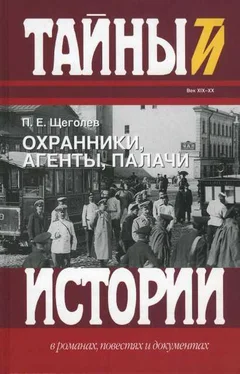
![Павел Щеголев - Дуэль и смерть Пушкина [Исследование и материалы]](/books/27714/pavel-chegolev-duel-i-smert-pushkina-issledovanie-thumb.webp)