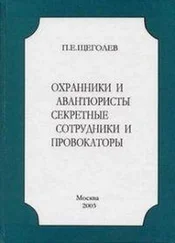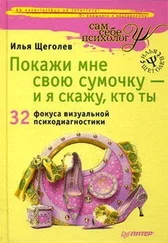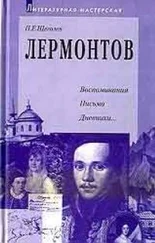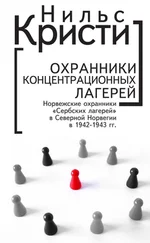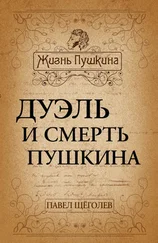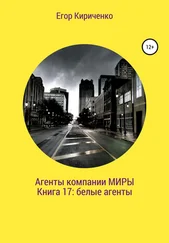Главное, наиболее эффективное звено гигантского механизма политического сыска империи — секретные агенты внутреннего наблюдения делились на департаментских, заграничных и местных. Департаментская агентура доставляла сведения о деятельности целых партий. Заграничная агентура информировала о русской революционной эмиграции. По возвращении в Россию агенты этой категории, как правило, переходили в ведение Департамента полиции. Местная агентура находилась на службе в охранных отделениях и доносила о положении дел в местных революционных кружках. Это разделение, регламентированное секретными циркулярами, следует считать условным. Например, Азефа в разные периоды его провокаторской деятельности можно в равной степени отнести одновременно к двум из перечисленных категорий агентов.
Все лица, занимавшиеся политическим сыском, действовали в соответствии с «Инструкцией начальникам охранных отделений по организации наружного наблюдения» и «Инструкцией по организации и ведению внутреннего наблюдения в жандармских и розыскных учреждениях». Последняя инструкция давала следующие рекомендации по вербовке секретных сотрудников: «Для приобретения их необходимо постоянное общение и собеседование лица, ведающего розыском, или опытных подчиненных ему лиц, с арестованными по политическим преступлениям. Ознакомившись с такими лицами и наметив тех из них, которых можно склонить на свою сторону (слабохарактерные, недостаточно убежденные революционеры, считающие себя обиженными в организации, склонные к легкой наживе и т. п.), лицо, ведающее розыском, склоняет их путем убеждения в свою сторону и тем обращает их из революционеров в лиц, преданных правительству. Этот сорт сотрудников нужно признать наилучшим. Помимо бесед с лицами, привлеченными уже к дознаниям, удается приобретать сотрудников из лиц, еще не арестованных, которые приглашаются для бесед лицом, ведающим розыском, в случае получения посторонним путем сведений о возможности приобретения такого рода сотрудников <���…>
При существовании у лица, ведающего агентурой, хороших отношений с офицерами корпуса жандармов и чинами судебного ведомства, производящими дела о государственных преступлениях, возможно получать от них, для обращения в сотрудники, обвиняемых, дающих чистосердечные показания, причем необходимо принять меры к тому, чтобы показания эти не оглашались. Если таковые даны словесно и не могут иметь серьезного значения для дела, то желательно входить в соглашение с допрашивающим о незанесении таких показаний в протокол, дабы с большей безопасностью создать нового сотрудника» [43] Агафонов В. К. Заграничная охранка. С. 196. Эта инструкция была столь засекречена, что ее оригинала в ленинградских книго- и архивохранилищах отыскать не удалось.
.
Секретные сотрудники «приобретались» охранниками разными путями. Судейкин убеждал арестованных революционеров в том, что он сторонник либерализации самодержавного правления империей и желает примирения с народовольцами. Он предлагал им посредничество в переговорах правительства с революционерами, а затем постепенно превращал в своих агентов. Тех, кто не соглашался на сотрудничество, инспектор охранки запугивал, если и это не удавалось, отправлял на каторгу или, в крайнем случае, в ссылку. Начальник Московского охранного отделения Н. С. Бердяев за уютным самоваром в неспешной беседе легко убедил молодого радикала С, В. Зубатова согласиться на оказание помощи секретной полиции. Иначе ему за участие в революционном кружке предстояло идти по этапу в Восточную Сибирь. С. В. Зубатов, занявший место Бердяева в Московском охранном отделении и унаследовавший его самовар, превзошел в мастерстве вербовки агентов сначала своего учителя, а потом и самого Г. П. Судейкина. Ученики и поклонники Зубатова, охранники помельче, превратили самовар в необходимый атрибут вербовки, талисман удачи, а чаепитие — в некий ритуал ее проведения. В арсенале охранников имелись и другие ритуалы, например, запугивание, психическое отделение тюремной больницы (практиковал еще Судейкин), пытка [44] См.: Загорский К. Я. В 1881–1882 гг.: Воспоминания // Каторга и ссылка. 1931. № 3. С. 156–179.
.
Сформулировать причины, по которым совершаются предательства и соратники превращаются в изменников и провокаторов, невозможно — сколько предательств, столько причин. На сотрудничество с полицией соглашались из страха, предавали, чтобы избежать казни, предавали из-за денег, неудовлетворенного тщеславия, под натиском шантажа и угроз. Но встречались и энтузиасты, доброхоты, шедшие по призванию.
Читать дальше
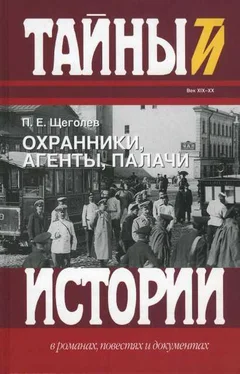
![Павел Щеголев - Дуэль и смерть Пушкина [Исследование и материалы]](/books/27714/pavel-chegolev-duel-i-smert-pushkina-issledovanie-thumb.webp)