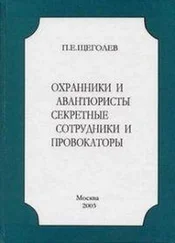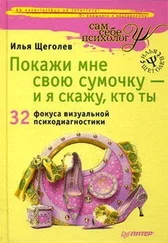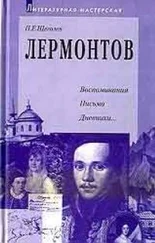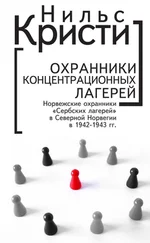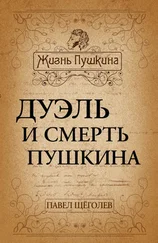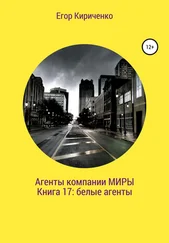«Правда, кое-где жандармским офицерам удалось уничтожить списки провокаторов, — писал публицист С. Г. Сватиков, — кое-где толпа, подстрекаемая агентами охраны, не понимая смысла происходящего, разгромила Охранные отделения и сожгла их архивы и делопроизводства. Так, например, погибла значительная часть архива Петроградского охранного отделения» [28] Сватиков С. Г. Русский политический сыск за границею. Ростов-на-Дону, 1921. С. 3.
. О происходившем на Фонтанке в здании Департамента полиции сообщили в Пушкинский дом Академии наук. Непременный секретарь Академии Наук академик С. Ф. Ольденбург сумел раздобыть несколько лошадей, запряженных в сани, и экспедиция, состоявшая из П. Е. Щеголева, Б. Л. Модзалевского, Н. А. Котляревского, А. С. Полякова, А. А. Шилова, В. П. Семенникова и других, отправилась на спасение ценнейших архивов [29] См.: Измайлов Н. И. Воспоминания о Пушкинском доме (1918–1928) // Русская литература. 1981. № 1. С. 91.
. Все, что удалось спасти, 3 марта погрузили в сани и свезли на Васильевский остров в Академию наук.
В Москве 1 марта 1917 года во дворе по Гнездниковскому переулку, 5 запылали костры. Горели документы охранного отделения. Кто-то носил бумаги в костры, кто-то брал на память папки, фотокарточки, брошюры. «Трудно было понять, — писал известный архивист В. В. Максаков, — кого в этой толпе было больше — любопытствующих или бывших охранников, стремившихся, пока не поздно, по возможности скрыть в огне костров следы своего участия в охране рухнувшего самодержавного строя. Что в толпе немало было бывших охранников, можно убедиться из того, что при проверке дел «охранки», в особенности ее так называемого «агентурного отдела», впоследствии выяснилось отсутствие, главным образом, личных дел секретных сотрудников, «агентурных записок» и тому подобных документов, по-видимому, не случайно исчезнувших во время «стихийного» разгрома охранки и полицейских участков». [30] Максимов В. В. Архив революции и внешней политики XIX и XX вв. И Архивное дело. 1927. Вып. 13. С. 29.
В провинции охранные отделения запылали одновременно со столичными. В первую очередь жгли личные дела секретных сотрудников и документы, регламентировавшие методы работы политического сыска. Слухи о происходивших повсеместных разгромах сыскных учреждений бывшей империи дошли до столицы, и 10 марта 1917 года Временное правительство учредило при Министерстве юстиции комиссию для ликвидации дел политического характера бывшего Департамента полиции. Ее возглавил один из первых историков русского освободительного движения бывший народоволец, известный охотник за провокаторами, В. Л. Бурцев. Увлеченный издательской деятельностью, Бурцев уделял Комиссии чрезвычайно мало времени, из-за этого часть архивов продолжала находиться на попечении их прежних хранителей — чиновников Министерства внутренних дел. Временное правительство «отдало распоряжение об охране полицейских архивов только тогда, когда официальные хранители их покинули свои посты и когда много документов уже было расхищено и уничтожено» [31] Там же. С. 27.
.
Видя, что бурцевская комиссия бездействует, министр юстиции А. Ф. Керенский обратился к группе общественных деятелей, в том числе к П. Е. Щеголеву, с предложением «в кратчайший срок рассмотреть документы, захваченные в Департаменте полиции и в других учреждениях» [32] ИМЛИ. Ф. 28. Оп. 2. Д. 194. Л. 1.
. Бурцевскую комиссию формально ликвидировали 15 июня 1917 года.
5 марта 1917 года Временное правительство сформировало Чрезвычайную следственную комиссию для расследования противозаконных по должности действий бывших министров и прочих высших должностных лиц, как гражданских, так и военного и морского ведомств. В ее работе постоянно участвовали: известный московский адвокат Н. К. Муратов (председатель), сенаторы С. В. Иванов и С. В. Завадский (заместители председателя), главный военный прокурор В. А. Апушкин, прокурор Харьковской судебной палаты Б. Н. Смиттен, прокурор Московского окружного суда Л. П. Олышев, академик С. Ф. Ольденбург, прокурор Виленской судебной палаты A. Ф. Романов, представитель Государственной Думы Ф. И. Родичев, от Исполнительного комитета Совета рабочих и солдатских депутатов Н. Д. Соколов и П. Е. Щеголев, вошедший в ее состав несколько позже. Главным редактором стенографических отчетов комиссия пригласила поэта А. А. Блока, ему помогали журналист М. П. Миклашевский и писательница Л. Я. Гуревич, научную редакцию отчетов выполнил профессор Е. В. Тарле. По замыслу учредителей, Комиссии предстояло собрать доказательства преступных деяний высших царских администраторов и подготовить обвинительное заключение для предания их суду.
Читать дальше
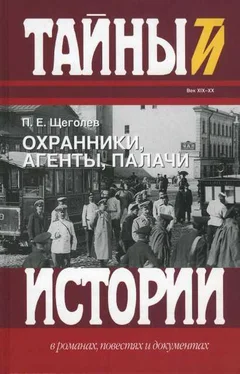
![Павел Щеголев - Дуэль и смерть Пушкина [Исследование и материалы]](/books/27714/pavel-chegolev-duel-i-smert-pushkina-issledovanie-thumb.webp)