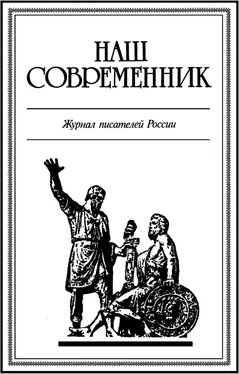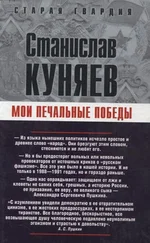“Sic transit Gloria mundi” — “так проходит земная слава”, но особенно быстро она проходит, если прах знаменитого человека находит себе последнийприют где-нибудь на чужбине. “Чужбина” — какое страшное слово! От него можно защититься только тёплой русской пословицей: “Где родился, там и сгодился”, наверно поэтому будут помнить тебя твои реки, твои леса, твои кладбища. “Складбища”, как сказала мне одна поморская старушка — то есть место, куда “складывают”. Будут тебя помнить какое-то время твои читатели, но их дети уже едва ли…
Перечисляя страны, куда ринулись за свободой и популярностью (несколько интервью, пара книжек мизерным тиражом, кое-какие гонорары, а если повезёт, как Аксёнову или Максимову, то работа на “Голосе Америки” или “Свободе”) десятки, если не сотни известных в СССР “прорабов духа”, нельзя не вспомнить о земле обетованной… Да, в Израиле чуть ли не все, кого встречаешь на улице, говорят по-русски, у многих двойное гражданство, но причины того, почему в эту опасную, “горячую” ближневосточную земную точку рванулись и детская писательница Елена Аксельрод, и романистка-матершинница Дина Рубина, и Давид Маркиш, и знаменитый артист Михаил Козаков, лежат гораздо глубже. О том, какие сакральные чувства продиктовали всем вышеупомянутым советским писателям поменять одну родину на другую, Михаил Козаков с редкой откровенностью изложил в книге своих мемуаров “Третий звонок”:
— “Один замечательный актер старшего поколения, той самой пресловутой национальности, фронтовик, прошедший Отечественную, часто говорил: “Запомни, Миша! Мы в России — в гостях. Запомни: в гостях! И перестань чему-либо удивляться”. Я возражал: “И это говоришь ты, фронтовик? Актер, которого любят миллионы?” — “Да, всё это так, Миша, и всё-таки мы в гостях”.
Признаться, я так не думал, по крайней мере тогда, лет пятнадцать назад, когда впервые услышал от него эту фразу. А вот сравнительно недавно задумался… ”
Об этой тайне еврейской души я догадывался и задолго до роковых девяностых попытался разгадать её в одном из своих стихотворений, которое, помоему, и печатаю впервые:
Кто куда — к Арарату армяне.
Иудеи к священным холмам
с долгожданною визой в кармане,
“дым отечества”, жизнь пополам.
Патриоты и космополиты,
разногласья забыв навсегда,
пишут письма, читают молитвы,
ждут ответа, считают года…
Под защиту родимого крова,
завершая всемирный процесс,
возвращается прах Огарёва
на Ленгоры, и в этом — прогресс.
Стихотворение написано в 70-х годах, когда русское тёплое поветрие смягчило идеологические нравы, когда общество, словно бы услышав завет Пушкина о “любви к отеческим гробам”, с торжеством отпраздновало возвращение праха Огарёва из Европы на Воробьёвы горы, где они с Герценом давали клятву до конца жизни бороться с самодержавием. На этой волне “оттепели” вернулись в Россию на родные погосты прах Фёдора Шаляпина и Антона Деникина.
Влияние этой исторической стихии затронуло и души отпрысков двенадцати колен израилевых, почувствовавших запахи “родного пепелища”, о котором, как оказалось, они никогда не забывали, если вспомнить “Переписку из двух углов”, которую затеяли в 1920 году Василий Розанов и Михаил Гершензон. Последний однажды написал своему оппоненту:
“Я живу подобно чужеземцу, освоившемуся в чужой стране; любим туземцами и сам их люблю и радуюсь их радостью, но и знаю себя чужим, тайно грущу о полях моей родины, о её иной весне, о запахе её цветов и говоре её женщин. Где моя родина? Я не увижу её, умру на чужбине”. И это писал абсолютно ассимилированный “чужеземец”, исследователь творчества Пушкина и Чаадаева, Огарёва и Ивана Киреевского, автор книг “История молодой России”, “Грибоедовская Москва”, “Мудрость Пушкина”.
В 70-е годы прошлого века эта “переписка” ожила, зашевелилась, и оказалось, что и Гершензона можно понять, и Михаила Козакова с его старшим другом, ветераном Отечественной войны, и даже Давида Маркиша… Одно удручало: чувствуя в душе такие “гершензоновские” позывы, зачем им было клясться, словно бы на Библии: “Родина моя Россия, няня, Дуня, Евдокия” (А. Межиров). Или “Я патриот, я воздух русский, я землю русскую люблю” (П. Коган). Или “Я, как из веры переходят в ересь, отчаянно в Россию перешёл” (Б. Слуцкий).
Но не так-то просто перейти из одной веры в другую. Это легко получалось у Евтушенко или Вознесенского. Сегодня “Сталин”, завтра “Бухарин”. Сегодня Маяковский, завтра Ален Гинсберг. Но попытки поменять “веру” у поэтов более серьёзных вроде Межирова или Слуцкого стали трагедиями их жизни.
Читать дальше