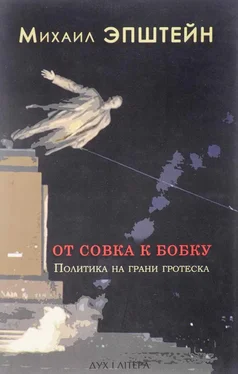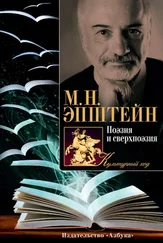А в те же дни на расстоянье
За древней каменной стеной
живет не человек, — деянье:
Поступок ростом с шар земной.
«Художник», 1936
Вот он, планетарный масштаб, столь угодный артисту, соразмерный ему как Фаусту и фантасту. Эстетическая тотальгия — это платоно-вагнеровская утопия о государстве как совершенном произведении искусства, мечта художника слова о художнике дела. И пусть это всеблагое государство, воздвигнутое гением поступка, не потерпит свободного гения слова, изгонит или задушит поэта как своего соперника, — он рад принять и это. И «весь я рад сойти на нет В ре-волюцьонной воле» («Весеннею порою льда…», 1931).
А теперь процитирую самого Д. Быкова, который в своем «Пастернаке» как бы предсказал собственную тотальгию:
«Самое же горькое заключается в том, что для Пастернака — и для любого крупного дарования — главным критерием оценки события или деятеля является масштаб. Масштабное зло можно ненавидеть, но уважать, — мелкое и компромиссное добро чаще всего удостаивается презрения». [25] Дмитрий Быков. «Борис Пастернак», М., ЖЗЛ, 2005, С. 521–522. Независимая газета, ExLibris, 27.10. 2011 http://exlibris.ng.ru/kafedra/2011-10-27/4_vektor.html
Быкову горько за Пастернака.
Мне — за Быкова.
Но есть и разница. Пастернак эстетизировал диктатора, пока его исторический масштаб еще был очевиднее, чем моральный вектор. Первоклассная диктатура только строилась, и еще можно было жить «в надежде славы и добра», уповать на сохранение масштаба при повороте вектора: от красочного зла — к красочному добру.
Столетье с лишним — не вчера,
А сила прежняя в соблазне
В надежде славы и добра
Глядеть на вещи без боязни. /…/
Но лишь сейчас сказать пора,
Величьем дня сравненье разня:
Начало славных дней Петра
Мрачили мятежи и казни.
Итак, вперед, не трепеща
И утешаясь параллелью…
(«Столетье с лишним— не вчера…», 1931).
Но сейчас, восемьдесят лет спустя, параллель не утешает, перед нами уже не начало славных дней, а их бесславный конец. Можно бестрепетно ринуться вперед, и в этом обаяние риска, но ринуться бестрепетно назад, — это уже инерция заколдованности и гибельной обреченности. Тогда «в эту дыру сквозило будущее», а сейчас — прошлое. Такова разница поступательной и возвратной тотальгии.
Лучшее, что было в истории тоталитарной державы, — это именно перемена масштаба, переход от первоклассной диктатуры к посредственной. От Сталина к Брежневу. И далее к Путину. Да здравствует посредственность! Если страна обречена на диктатуру, то пусть как можно более посредственную. Если убивает, то пусть не миллионами, а единицами, в надежде, что дальнейший рост посредственности сведет число жертв к нулю. Если вектор власти по-прежнему направлен ко злу, то спасение — не в укрупнении, а в предельном измельчении масштаба.
Конец советского строя со всей наглядностью прояснил то, что еще не было ясно в его начале. Пастернак, современник восходящей утопии, имел хотя бы эстетическое право на моральную ошибку. У нынешних тотальгистов такого права уже нет.
27 октября 2011
«Итак, хвала тебе, Чума…»
Как отделить больного от болезни? [26] Продолжение полемики, начавшейся после того, как Дмитрий Быков напечатал в «Новой газете»(№ 123) свой отклик «Чума и чумка» на статью М. Эпштейна «Масштаб и вектор»(«НГ-экслибрис» от 27 октября),
Своей статьей «Чума и чумка. Об удобстве антисоветской риторики и благотворности абсолютного зла» Быков повысил ставки в игре — с той силой, которую он сам назвал «абсолютным злом» и обыграть которую невозможно. Кто только не пытался: Фауст, Вальсингам с его гимном чуме, Карамазов с его поэмой о Великом Инквизиторе… Из русских писателей — Горький и Маяковский, персонажи биографических книг Быкова. Порою кажется, что эти персонажи стали переселяться в автора, подсказывая ему «буревестническую» интонацию статьи: обличение «дряни» («уютец в болотце», «скромное суши по выходным») и прославление всяческого «громадья», даже тоталитарного.
К огромному моему сожалению — потому что я люблю лирику, сатиру, биографическую прозу Быкова, — его статья, за вычетом нескольких формальных оговорок, оправдывает тоталитаризм и, по контрасту с нынешней «посредственной диктатурой», даже содержит неявный, скорее всего, невольный призыв к нему.
Центральный тезис Быкова:
«Первосортная диктатура потому и плодит великие поколения, что абсолютное зло действительно благотворно в нравственном отношении: оно вызывает желание бороться, желание бескомпромиссное, отважное и страстное… Полноценная диктатура, даже и вырождаясь, воспитала несколько поколений людей, для которых милосердие, свобода, правда не были пустым звуком».
Читать дальше