Свой сословный подтекст мещанство перерастает под влиянием европейских, и прежде всего французских событий революции 1848 года. Забавно, между прочим, что мещанство – это еще и почти омоним французского mesquin (мелочный, жалкий, пошлый), эпитета, которым часто пользовалась французская публицистика той эпохи. Так, в романе ныне забытого российского литератора Александра Вельтмана «Саломея» (1848), барышня в этих именно выражениях негодует: «Comme c’est mesquin! Какое мещанство, – вскричала она…» (потому что папенька в ее честь дадут званый вечер вместо бала).
Тут снова появляется Герцен, куда ж без него. Как интеллигенция первоначально обустраивается в его франкоязычной публицистике, так и мещанство обязано своим местом в интеллигентском лексиконе его текстам после 1840‐х годов. Герцен, как мы помним, понимал интеллигенцию в духе мыслящего активного меньшинства, помещая в «Развитии революционных идей в России» место «умственной работы» ( le travail intellectuel ) «главным образом, среди мелкого и среднего дворянства». Сословное презрение к мещанину «русского барина-интеллигента», как характеризовал Герцена писатель Боборыкин, соединялось в нем с разочарованием в западном буржуа. По публицистике Герцена можно видеть, как мещанство , русский аналог «буржуази» (сначала так, на галльский манер) становится оценочным термином, «этическое мещанство» – эквивалентом мирового зла вместе с буржуазной цивилизацией . «Мещанство – вот последнее слово цивилизации», – зловеще провозглашает Герцен в 1864 году в «Былом и думах», предрекая, что «в мещанство идет» весь «образованный» мир.
Отшатывание Герцена от «мещанской Европы» равносильно отрицанию западного капитализма и появлению на русском идейном горизонте социалистической альтернативы как национального выбора. «Некоторым народам, – пишет Искандер, – мещанское устройство противно, а другие в нем как рыба в воде. Испанцы, поляки, отчасти итальянцы и русские имеют в себе очень мало мещанских элементов, общественное устройство, в котором им было бы привольно, выше того, что может дать им мещанство». Обратим внимание на очертания немещанской Европы: из нее безусловно исключен протестантизм, который для Герцена символизирует мещанскую религию.
Семантически антипатия выражена как отвержение середины, умеренности, посредственности. Отсюда содрогание Герцена, читающего «О свободе» Джона Стюарта Милля (1859), перед collective mediocrity («сборной посредственностью»). Отсюда же его категорическое заявление в письме историку Жюлю Мишле (1851), что «Россия никогда не будет золотой серединой ( juste milieu )». Как в воду глядел. Неудивительно, что далее все шло по накатанной: «серединный интелигент» (опять с одной «л» – пока не определились, как с литтературой ) фигурирует у Николая Васильевича Шелгунова в качестве бранного слова. А наш «Брокгауз и Ефрон» о «золотой середине» оговаривается так: «Выражение это обыкновенно употребляется в ироническом смысле».
Публицист с говорящим (и, в отличие от двойной фамилии, как ни удивительно, настоящим) именем Разумник Иванович Иванов-Разумник подвел под эти построения теоретическую базу, выпустив в 1907 году «Историю русской общественной мысли». С подзаголовком: «Индивидуализм и мещанство в русской литературе и жизни XIX века». «История общественной мысли» уже прямо толковалась как манихейская борьба двух начал: интеллигенции, воплощающей творческое и личностное начало, и мещанства, воплощающего соответственно все противоположное плохое. Популярность этой рыхлой в своей аргументации книги, выдержавшей несколько изданий, прочно закрепила мещанство в виде штатного пугала на интеллигентском огороде. В него летели сатирические молнии Чехова («Нет ничего пошлее мещанской жизни с ее грошами, харчами, нелепыми разговорами и никому не нужной условной добродетелью») и классово-сознательные инвективы Горького. Буревестник революции пошел до конца, в своих «Заметках о мещанстве» (1905) записав в последние за «проповедь терпения» Достоевского с Толстым, чем несказанно порадовал Ленина.
Мещанство и пошлость образовали вокруг себя куст смежных понятий, таких, как хам или обыватель , также польского происхождения. Но если в польском языке obywatel сохранил нейтральное значение гражданина/гражданства, то у нас стал, обычно с собирательно-уничижительным суффиксом – обывательщина, – хитом словесных конструкций в советскую эпоху, которая выбрала себе одним из главных врагов «обывательскую мораль» и «мурло мещанина». В его именно адрес революционный романтизм грозился свернуть шеи канарейкам и разбить горшки с геранью. Преемственность дореволюционного интеллигентского и послереволюционного языка логична, поскольку при всех кардинальных различиях категорическим императивом была антибуржуазность. То, что объектом ненависти служит буржуазность не по Марксу, а по Флоберу, которая «свидетельствует скорее о складе ума, чем о содержимом кошелька», дела не меняло.
Читать дальше
![Денис Сдвижков Знайки и их друзья. Сравнительная история русской интеллигенции [litres] обложка книги](/books/431867/denis-sdvizhkov-znajki-i-ih-druzya-sravnitelnaya-i-cover.webp)
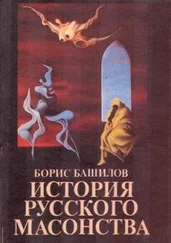


![Александр Бушков - Русский Шерлок Холмс [История русской полиции] [litres]](/books/386765/aleksandr-bushkov-russkij-sherlok-holms-istoriya-rus-thumb.webp)
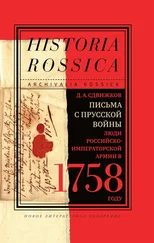

![Абрам Рейтблат - Классика, скандал, Булгарин… Статьи и материалы по социологии и истории русской литературы [litres]](/books/430777/abram-rejtblat-klassika-skandal-bulgarin-stati-thumb.webp)

