К этому времени антибуржуазность интеллигенции приняла форму эстетской культурной критики по всему континенту. Наряду с политическими и социальными теневыми сторонами капитализма (или, если угодно, модернизации), ключевую роль играли перемены в сфере культуры. Из образованной публики, совпадающей с «хорошим обществом», развитие вело к публике массовой, катастрофически снижавшей планку «хорошего вкуса». Устрашенные пришествием «масс», жрецы храма прекрасного в панике пытались забаррикадироваться против масс-культуры и охлократии. Эту новую угрожающую массу оксфордский историк литературы Джон Кэри возводит к учению Блаженного Августина о первородном грехе, который обрекал большую часть человечества на участь «пр о клятой массы погибели» ( massa damnata ), безвольной «глины» латинской Вульгаты (Рим. 9:21).
«Массы» эпохи, в отличие от «толпы», «быдла», «скотов» и т. п. предыдущей, были читающими. Так квинтэссенцией врага стали «глотатели пустот, читатели газет» Марины Цветаевой. Или чуть раньше, у Ницше: «Взгляните на этих лишних людей… Они изрыгают желчь и называют это газетой». Ницшеанский бунт, герои против лавочников, культ вождизма, непокоя, нервозности: все это сплошной мейнстрим, расцветающий пышным цветом в эпоху fin-de-siècle . И далее появление модернизма, современного элитарного искусства, недоступного профанам, которым не помогут снисходительные книжки «Как понять современное искусство» и «Модерн арт для чайников». «Придется массам все же разбираться в нем» (новом искусстве), – неумолим автор «Черного квадрата» (1925).
Понятно, что масштаб и формы процессов зависят от множества факторов. Пока в восточной части Европы «средний класс» совпадает с «образованным обществом», о включении в него предпринимательского элемента говорят в будущем времени или в сослагательном наклонении. Единственная реальная социальная характеристика «середины» здесь внесословность, а не буржуазность. Отчасти в Польше и тем более в России сложно с буржуа как культурным типом, с кредо «третьего сословия», «духом предпринимательства», с буржуазной культурой городского патрициата. Фигура буржуа, предпринимателя не получает символического веса вплоть до конца «долгого XIX века», и дефицит «русского буржуазизма» в этой области ощущается по сию пору.
Для нравственного каталога интеллигенции вполне органичны гражданственность, стремление к буржуазным свободам, даже к капиталистическому материальному изобилию, но не буржуазность. Не только традиционный представитель «темного царства» купечества, но и современный сознательный «буржуй» оставались persona non grata. Как идеальный тип в России отсутствует феномен gentry, предпринимателя-дворянина; идея благородства и службы мало совместима с буржуазными ценностями. Руководящей нормой воспитания личности в интеллигенции остается ориентация на идеал, а не «успех». «Интеллигенция и буржуазия могут, конечно, идти рука об руку, помогать друг другу, даже совпадать, но это частный случай, а не общее правило», – пишет народник Михайловский. Общее правило – блюсти эту границу. С точки зрения народников, само появление интеллигенции как понятия и слоя в России этим и было обосновано: «задача русской интеллигенции в том именно и состоит, чтобы бороться с развитием буржуазии на русской почве».
У Боборыкина в романе «Солидные добродетели» (1900) ученый Крутицын, знакомящийся с промышленником из староверов в поезде, именует таких «папуанцами», то бишь дикарями. «Пузатый капитал надо побороть интеллигенцией, указать ему на возможность быть человечнее» – цивилизовать, стало быть. Уже эмигрантом Павел Бурышкин в «Москве купеческой», сводя сальдо прошлого, объяснял историческое банкротство русской буржуазии: «Во всех некупеческих слоях – и в дворянстве, и в чиновничестве, и в кругах интеллигенции, как правой, так и левой отношение к „толстосумам“ было в общем малодружелюбным, насмешливым <���…> торгово-промышленники отнюдь не пользовались тем значением, которое они должны были иметь благодаря своему руководящему участию в русской хозяйственной жизни и которым пользовались их западные <���…> коллеги». Обратим внимание: в русской языковой культуре так и не появился собственный позитивно окрашенный термин для определения буржуа. «Крепкий хозяин»? Но это столыпинский лексикон власти, тогда как в остальной, даже либеральной интеллигенции, фигурируют отвлеченные «торгово-промышленные классы». И в цитате выше употреблены определения либо описательные, либо грубо-ругательные, что характерно в языке для чего-то постыдного и табуированного, вроде интимных отношений.
Читать дальше
![Денис Сдвижков Знайки и их друзья. Сравнительная история русской интеллигенции [litres] обложка книги](/books/431867/denis-sdvizhkov-znajki-i-ih-druzya-sravnitelnaya-i-cover.webp)
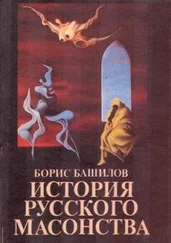


![Александр Бушков - Русский Шерлок Холмс [История русской полиции] [litres]](/books/386765/aleksandr-bushkov-russkij-sherlok-holms-istoriya-rus-thumb.webp)
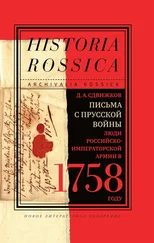

![Абрам Рейтблат - Классика, скандал, Булгарин… Статьи и материалы по социологии и истории русской литературы [litres]](/books/430777/abram-rejtblat-klassika-skandal-bulgarin-stati-thumb.webp)

