Возьмем для сравнения Польшу: страна с иной конфессиональной культурой, средневековыми корпорациями, магдебургским правом и ратушными башнями городов. Но и тут противоречия сословной культуры: в шляхетском кодексе чести на одном из первых мест стоял «грех и позор торгашества» ( grzech i sramota kupczyć) . Хотя принципы принципами, а жизнь жизнью, шляхта в массе своей относилась к торговому мещанству подчеркнуто брезгливо, и компромиссы в стиле английских джентри не были типичны. Как только экономический капитал начинал набирать символический вес, среди аристократствующей и эстетствующей интеллигенции неизбежно возникало пугало парвеню с сарказмами по поводу «свиных рыл» купчин на Парнасе. Как и в русском интеллигентском дискурсе, мещанство ( mieszczaństwo ) и буржуй ( burżuj ) становятся нарицательным для обозначения буржуазной пошлости и новых хамов : «Это не человек, это настоящий буржуй», – вкладывает Стефан Жеромский реплику в уста одному из своих героев. «Нет другого такого слоя, которому бы в польской истории досталось так, как мещанству. Польская литература сухой нитки на нем не оставила», – подтверждает современный критик. Воображаемое пространство польских понятий аналогично «городу Глупову» в русской литературе: собирательная Obrzydłówka («Обрыдловка»), где nuda, pustynia, straszna prowincja, dusza umiera (тоска, пустыня, страшная провинция, душа умирает). «Что за мелочные, приземленные, мерзкие фигуры всех этих добропорядочных инженеров, загребающих жирные концессии и хорошеньких девиц с солидным приданым, всех этих оборотистых предпринимателей», – кривился публицист начала XX века по поводу положительного героя литературы варшавского позитивизма.
И, как и в русском варианте, кровопийца-«буржуй» в Польше частенько говорил с акцентом: у консервативно-националистической интеллигенции с еврейским, у остальной с немецким. Бюргер, колбасник стал для интеллигентов всей Восточной, ныне «Восточно-Центральной», Европы во второй половине XIX века квинтэссенцией мещанства.
Антиматериализм и антибуржуазность возводились, наоборот, на уровень нормативного идеала для интеллигента, и таким этому идеалу суждено было остаться в исторической памяти поколений. Бесконечны в польских интеллигентских воспоминаниях цитаты о «тихих работниках, которые… ни за хлеб, ни за какие иные блага не предали универсального духа», об их «почитании правды и справедливости, бескорыстии, идеальном, апостольском настрое, презрении к мещанству и филистерству ( kołtuństwo ). Отсутствие денег было тут подтверждением порядочности, практичность – скорее дисквалификацией или уж, во всяком случае, свидетельством чужеродности».
Узнаваемо и то, что идеал героического аскета оставался для многих, да что там – большинства – идеалом, а не руководством к практической жизни. Материальные и профессиональные личные или семейные интересы сосуществуют с общественно-национальными, заявленный аскетический идеал с тихой конформистской реальностью, создавая при диктате общественного мнения своеобразную двойную жизнь интеллигенции. Как у внука разоренного в 1831 году шляхтича-повстанца в романе Стефана Жеромского «Канун весны» (1924), который делает деньги на нефтепромыслах в Баку, а повстанческое прошлое семьи остается «чем–то вроде религии, которую даже не исповедуют и не практикуют, но признают ради уважения».
Так что, «врач, инженер остаются интеллигентами в каком-то верхнем, безответственном скапе сознания: на чердаке, куда сваливают всякую рухлядь; деловитость и интеллигентность не совместима», как утверждал Георгий Федотов? Не все так однозначно: враждебные в статической картинке, в динамике буржуа и интеллигент дрейфуют в направлении друг к другу. Контуры врага сдвигаются по всей Европе в сторону «некультурной» мелкой буржуазии, но союзы интеллигенции с респектабельными меценатами из купечества и банкиров во втором-третьем поколении вырастают за рамки ситуативных.
Антибуржуазность интеллигентской психологии стала очевидно и заметно размываться в последние предреволюционные десятилетия и на востоке континента. Процесс сближения русской буржуазии и интеллигенции имел несколько ипостасей. Как и в случае с духовенством, это прежде всего создание общественного поля для обсуждения и контактов. Во второй половине XIX века новая техническая интеллигенция берет в свои руки инициативу сотрудничества с предпринимателями в деле организации производства и улучшения условий труда, как, например, в рамках основанного в 1866 году Русского технического общества. Реальный общественный резонанс имели постоянные контакты между интеллигенцией и крупной буржуазией, наладившиеся с рубежа веков на уровне культурной и научной элиты, с одной стороны, и крупных буржуа – с другой, как в рамках «экономических бесед» у московских купцов Александра Коновалова и Павла Рябушинского. Сюда приглашались представители «промышленности» и «академиков», а также политики из правительства и Думы. С целью «сближения двух миров: общественности и промышленности, буржуазии и интеллигенции, науки и делячества». И в собственно предпринимательской среде, на купеческих собраниях в предвоенное десятилетие резко увеличивается число постоянных членов и гостей из интеллигенции.
Читать дальше
![Денис Сдвижков Знайки и их друзья. Сравнительная история русской интеллигенции [litres] обложка книги](/books/431867/denis-sdvizhkov-znajki-i-ih-druzya-sravnitelnaya-i-cover.webp)
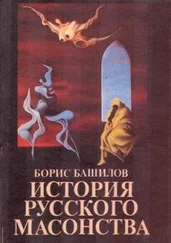


![Александр Бушков - Русский Шерлок Холмс [История русской полиции] [litres]](/books/386765/aleksandr-bushkov-russkij-sherlok-holms-istoriya-rus-thumb.webp)
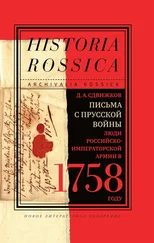

![Абрам Рейтблат - Классика, скандал, Булгарин… Статьи и материалы по социологии и истории русской литературы [litres]](/books/430777/abram-rejtblat-klassika-skandal-bulgarin-stati-thumb.webp)

