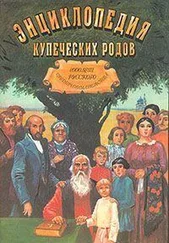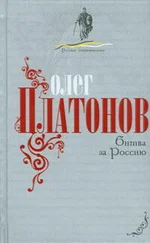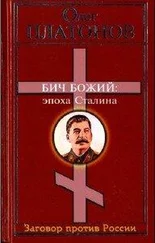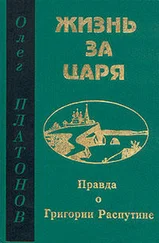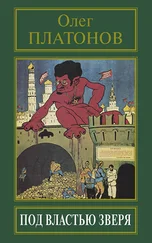И ничего не попишешь: согласно законам 30-х — 40-х годов администрация имела право не отпускать работника. Таким образом, трудовая книжка, как и паспорт, стали средствами закрепления работника за определенным местом работы.
В 1940 году наркоматам предоставляется по закону право производить организационное перераспределение между предприятиями, независимо от их территориального расположения, кадров: инженеров, техников, экономистов, мастеров и квалифицированных рабочих. Таким образом, администрация наркоматов могла сама устанавливать, где работать тем или иным специалистам, практически без учета их личных интересов.
Директора предприятий получают диктаторские полномочия «казнить или миловать» своих работников: переводить их с места на место без их согласия, увольнять по собственному произволу, отдавать под суд. Хотя, вместе с тем, сами директора во всем зависели от произвола наркоматов, руководство которых могло в любой момент отдать их под суд даже за незначительные упущения или просто по навету
В этих условиях многие директора превращались в шкурников, готовых ради собственного благополучия любой ценой делать план, пренебрегая элементарными правилами человеческого общежития. «С самых разных противоположных сторон жизни, — писал в 1930 году писатель "Пришвин, — поступают свидетельства о том, что в сердце советского предприятия находится авантюрист и главное зло от него в том, что «цель оправдывает средства», а человека забывают. В этом же и есть, по-видимому, вся суть авантюры: внимание и забота направлены на внешнюю сторону, отрыв от человека — потому несерьезность. Забвение человека ради дела, поставленного авантюристом». Если нужно ради спасения плана кинуть в ледяную воду сотни человек (прекрасно зная, что часть из них погибнет), такой руководитель, не задумываясь, сделает это. Если понадобится, такой руководитель заставит работать на неисправной технике, грозящей смертью. Литература 30-х годов полна подобными примерами — только тогда это выдавалось за сознательный героизм.
В 1940 году издается указ «О государственных трудовых резервах СССР», обязывающий председателей колхозов «ежегодно выделять в порядке призыва (мобилизации) по 2 человека молодежи мужского пола в возрасте 14–15 лет в ремесленные и железнодорожные училища и 16–17 лет в школы фабрично-заводского обучения на каждые 100 членов колхоза, считая мужчин и женщин в возрасте от 14 до 55 лет» («Правда», 1940, 3 октября). Городские Советы депутатов трудящихся обязаны ежегодно выделять в порядке призыва (мобилизации) молодежь мужского пола в том возрасте в количестве, которое ежегодно устанавливалось правительством. Позже возраст мужской молодежи, призываемой в школы ФЗО, повышается до 15–17 лет; вместе с тем разрешается призыв в школы ФЗО женщин в возрасте 16–18 лет.
Указ предусматривал ежегодную подготовку для промышленности в ремесленных и железнодорожных училищах и ФЗО до 1 млн. человек городской и сельской молодежи. Молодые люди, окончившие ремесленные и железнодорожные училища и школы ФЗО, считались мобилизованными и были обязаны работать 4 года подряд на тех государственных предприятиях, куда они посылались. Уклонения от мобилизации каралось в уголовном порядке. Как в работных домах Англии XVIII–XIX веков беглым подросткам грозило наказание до полугода тюремного заключения.
Наряду со страхом, порождаемым административно-террористическими методами регулирования труда, превращением его в принудительный и подневольный, другой особенностью эпохи становится голод — прямое последствие государственной политики экономии на человеке и вместе с тем еще один метод управления трудом.
Именно в конце 20-х, в 30-е годы в практику нашей страны входит порочный, экономически несостоятельный «остаточный метод распределения ресурсов, идущих на потребление трудящихся, по сути дела — политика «экономии на человеке».
Человеку просто недоплачивали за его труд. Доля рабочего в созданном им продукте в конце 20-х — 30-е годы снизилась почти в два раза.
Рабочие голодали, жили на скудном пайке, а пропаганда трубила, что они «горят решимостью выполнить и перевыполнить задания правительства и партии. Работают мускулы. Горят глаза рабочих, жаждущих внести свой вклад в дело строительства социализма. Куются новые формы труда. На наших глазах зарождается поистине коммунистический труд».
На предприятиях заводятся черные доски, куда заносятся лодыри и прогульщики, вывешивают ежедневно в цехах на подвижных кранах имена и фамилии прогульщиков. А для передовиков заводят красные доски.
Читать дальше