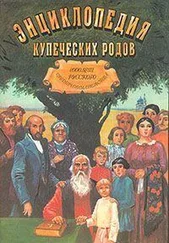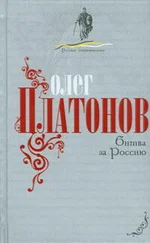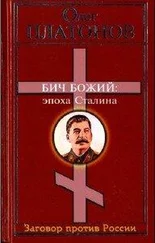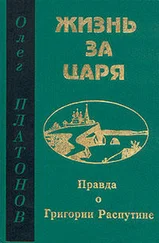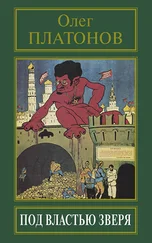После окончания гражданской войны часть солдат организуют в трудовые армии, которые, как настоящие военные части, направляются на объекты государственного значения; распределение работ в них осуществляется принудительно-приказным способом, а оплата труда — по пайковой системе. Первая трудовая армия формируется на Урале, чуть позднее возникают Донецкая, Кавказская, Поволжская, Петроградская, Сибирская, Туркестанская, Украинская и Центральная. Вдохновителем и руководителем создания этих трудовых армий был все тот же Л. Троцкий. В начале 1920 годов численность трудовых армий достигла пяти миллионов человек, выполнявших самые различные виды работ в промышленности, на транспорте и даже в сельском хозяйстве. Милитаризация труда парализовывала народные основы труда, разрушала его духовное содержание, ломала сложившиеся трудовые отношения. Страна была ввергнута в катастрофу невиданного масштаба, прежде всего, в результате «всеобщего развала сферы труда и трудовых отношений». Сельское хозяйство — отброшено лет на сто назад. Выработка промышленной продукции сократилась в семь раз, производительность труда в четыре раза.
Попытка насаждения принудительного труда в государственном масштабе, противная характеру и психологии народа, потерпела неизбежный крах. По всей стране ширилось повстанческое движение за возвращение к народным основам, традициям и идеалам, за свободный труд, за народные понятия справедливости и счастья. Гражданская война к 1920 году превратилась в крестьянскую войну за свой коренной порядок жизни. Те же самые идеи, как костер, разгорались в городах, знаменуясь забастовками и восстаниями рабочих Москвы, Петрограда, Воткинска, Ижевска и др. Народное движение поддержали восставшие моряки Кронштадта.
В 20-х годах, как чума, продолжают развиваться симптомы отрицания народной культуры труда. Америка, американская техника — Форд, Тейлор — становится моделью, предметом поклонения. Отрицание народной культуры всячески поощряется с самого верха. Сталин говорит о сочетании «русского революционного размаха и американской деловитости». Алексей Гастев провозглашает: «Возьмем буран революции — СССР. Вложим пульс Америки и сделаем работу, выверенную, как хронометр». Троцкист Л. Сосновский объявляет, что надо искать «русских американцев», людей, которые «умеют работать таким темпом и с таким напором и нажимом, каких не знала старая Русь». Дошло даже до того, что и некоторые крестьянские поэты начали воспевать Америку; Петр Орешин, например, писал: «И, снится каждой полевой лачуге чудесный край — железный Нью-Йорк».
Возникают но сути дела бредовые идеи превращения сельского хозяйства в ряд гигантских фабрик с тейлоризированной организацией труда (агрогородов), в которых практически не оставалось места для применения ценностей традиционной крестьянской культуры.
От рассуждения «о лени и спячке» трудовой России один шаг до теоретических постулатов Троцкого, о «культурном идиотизме» русского крестьянства — «смердяковской философии» презрения крестьянской культуры. «Культурный идиотизм» крестьянства считался фактом, не требующим доказательств, и применялся многими политиками и культурными деятелями того времени. В частности, М. Горький неоднократно использовал этот «термин» в своих статьях.
Да что Горький, вся государственная политика 20-х годов рассматривает крестьян как людей второго сорта. Государство стремится выкачать из деревни как можно больше средств, лишает крестьян права самоуправления, передав руководство деревней в руки пролетарских и босяцких элементов.
С конца 20-х годов принуждение, страх, голод снова становятся главными движущими силами сферы труда, а сам труд приобретает принудительный характер в государственном масштабе.
В популярной в 30-е годы пьесе Н. Афиногенова «Страх» один из персонажей, профессор Бородин, заявляет, Что сейчас «общим стимулом поведения 80 % всех обследованных (граждан страны. — О. П.) является страх».
Страх царствует всюду, пропитывает все поры общества, парализуя творчество, самостоятельность, инициативу, предприимчивость. «Молочница, — говорит Бородин, — боится конфискации коровы, крестьянин — насильственной коллективизации, советский работник — непрерывных чисток, партийный работник боится обвинений в уклоне, научный работник — обвинения в идеализме, работник техники — обвинения во вредительстве. Мы живем в эпоху великого страха. Страх заставляет талантливых интеллигентов отрекаться от матерей, подделывать социальное происхождение… Страх ходит за человеком. Человек становится недоверчивым, замкнутым, недобросовестным, неряшливым и беспринципным… Кролик, который увидел удава, не в состоянии двинуться с места… Он покорно ждет, пока, удавные кольца сожмут и раздавят его. Мы все кролики. Можно ли после этого работать творчески? Разумеется, нет».
Читать дальше