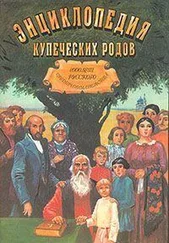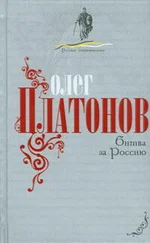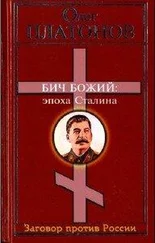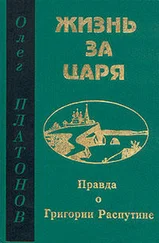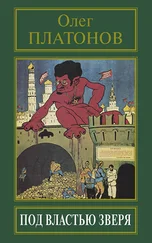По всей стране происходит возвращение к принудительным методам регулирования сферы труда, сходных с методами военного коммунизма, но шагнувшими еще дальше. Возвращение это не было случайным, а обуславливалось всей предыдущей политикой и практикой нового режима. В том, что к методам принудительного труда придется вернуться, Сталин не сомневался. «Мы пробовали этот путь, — писал он в 1927 году, — в период военного коммунизма в виде организации трудовых армий. Но на этом пути больших результатов не добились. Мы пошли потом к этой цели обходными путями, и нет основания сомневаться в том, что добьемся в этой области решающих успехов».
Основной формой привлечения кадров в промышленность стал так называемый организационный набор путем заключения договоров хозяйственных организаций с колхозами, закрепление рабочих за предприятиями на определенные сроки на основе контрактации (постановление ЦИК и Совнаркома СССР «Об отходничестве», 30 июля 1931 года). На практике это было так. Соответствующие органы давали разнарядку на район. Райком спускал эту разнарядку в отдельные колхозы. Колхозы автоматически заключали договора, причем практически не учитывались склонности и интересы самих направляемых колхозников. Бывшие колхозники прикреплялись к тем предприятиям, где, по мнению бюрократических органов, наблюдалась необходимость в них. Бывший колхозник не мог покинуть предприятие, пока не закончится срок контрактации.
Постановлением ЦИК и СНК 27 декабря 1932 года в стране вводится паспортная система, ставшая в тех условиях одной из главных форм принудительного регулирования рабочей силы.
Люди, не имевшие паспортов, а жителям села их не выдавали, не могли устроиться на работу и поэтому пожизненно прикреплялись к тому или иному колхозу. Жители городов не могли устроиться на работу без прописки, а часто и, наоборот, не могли получить прописки, не устроившись на работу. Таким образом, устанавливалась принудительная связь между местом работы и жительством.
Кроме паспортного режима существовала еще знаменитая статья «7-35», по которой получали до 7 лет люди «без определенного места жительства» и «без определенных занятий». По своей свирепости этот закон опередил английский «закон» о бродяжничестве», который предусматривал более мягкое наказание.
Вводится драконовский закон, предусматривающий немедленное увольнение хотя бы за один прогул. Постановление ЦИК от 15.11.1932 года гласило: «Установить, что в случае хотя бы одного дня неявки на работу без уважительных причин работник подлежит увольнению с предприятия или из учреждения с лишением его права пользования выделенными ему, как работнику данного предприятия или учреждения, продовольственными и промтоварными карточками, а также с лишением его права пользования квартирой, предоставленной ему в домах данного предприятия или учреждения».
В 1933 году выходит постановление «О порядке отходничества от колхозов», в котором предусматриваются меры административного наказания за самостоятельный уход колхозника на постоянную или временную работу в город. Разрешение на уход дается только на основании специально зарегистрированного в правлении колхоза договора с хозорганами.
В 30-е годы промышленность ежегодно набирала в «организованном» порядке в колхозах около полутора-двух миллионов человек. Только за годы второй пятилетки было «организовано» и направлено в промышленность и транспорт около 13 млн. человек — преимущественно колхозников.
Рабочих «добровольно-принудительно» объединяют в ударные бригады, заставляя закрывать глаза на ужасные условия работы и быта. Более того, ударные бригады «добровольно» пересматривают нормы выработки в сторону их повышения, а сдельные расценки в сторону понижения. Одновременно берутся повышенные против плана задания по производству и по снижению себестоимости. В конце 20-х — 30-е годы нормы выработки в промышленности повысились на 15–50 процентов, а расценки на многие работы снизились.
Рабочие, пока была возможность, пытались переходить на другое место работы, однако чаще всего и там было то же самое. Тем не менее, текучесть рабочей силы, например, в Донбассе в 1930 году доходила до 60–65 процентов. На хлопчатобумажных предприятиях за год сменилось 68 процентов всех рабочих, льняных — 104 процента, обувных — 120 процентов.
Чтобы остановить этот естественный процесс, государством осуществляется целый ряд мероприятий по принудительному закреплению рабочей силы.
Читать дальше