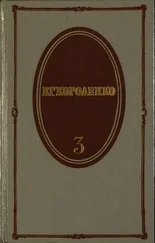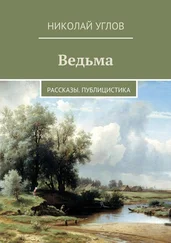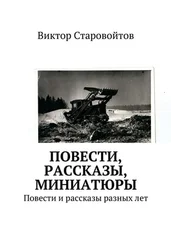На свои заботы мама никому не жаловалась. Но в конце концов проговорилась… Катерине. Та помогла сейчас же — возможности ее были, конечно же, выше маминых: она танцевала в Большом театре почти все сольные партии. Вслед за нею отозвался и Густав. Однако же и мольбы о помощи росли снежным комом. Вот тогда мама и обратилась ко всем своим друзьям и знакомым, к тем еще, кто знал ее, кто ее помнил по операционным розенберговского лазарета в Маньчжурии, в Порт—Артуре, в Японии. Обратилась с призывом откликнуться на мольбы несчастных инвалидов и калек— воинов российских. Обратилась, уверенная, что найдутся добросердечные люди, готовые прийти на помощь своим соотечественникам… Она не ошиблась.
Первыми откликнулись самые близкие друзья–маньчжурцы Александр Васильевич Колчак и Врангели — искусствовед Эрмитажа Николай Николаевич и порт–артурец Петр Николаевич, горный инженер. Тут же ее разыскали маньчжурец Николай Нилович Бурденко; прибывший из Москвы ее почитатель епископ Тихон (Белавин) и его товарищ по миссии в Америке протопресвитер о. Александр Хатовицкий; супруги Розенберги — Эмма Мария Францевна, мамина «сменщица» по Порт—Артуру, Александр Львович — мамин учитель, главврач ее маньчжурских, японских и балтийских лазаретов; явилась подруга и коллега мамы по Маньчжурии и Японии княжна Шаховская; отозвался Александр Васильевич Кутепов, «Сашенька», земляк, товарищ детства покойного мужа мамы Миши Вильнаи. Недавно совсем, 4 августа 1904 года, «поручитель по жениху» на бракосочетании мамы и Михаила в маньчжурском селении Дайхен…
Отозвался профессор Бехтерев Владимир Михайлович, мамин педагог по кафедрам психиатрии и невропатологии. Помог авторитетом всенародно признанного героя Порт—Артура дядя Катерины Николай Оттович Эссен. Он писал маме: «Да будет светлая память генерала Кондратенко и доктора Вильнаи, породненных подвигом и героической смертью их 2 декабря 1904 года, зароком вечного братства живых участников войны в деле поддержки товарищей–инвалидов!» В дни маминых хлопот Эссен — командующий Балтфлотом. В 1913 году он станет самым молодым в истории России полным адмиралом. И умрет в 1915 году, отдав время и силы и маминому делу.
Отзовутся и Александр Васильевич Самсонов, и Алексей Михайлович Щастный, и Викентий Викентьевич Вересаев, и — из Китая уже — Лавр Георгиевич Корнилов, ученый–востоковед, друг Густава. Летом 1917 года русская демократия под вой насмерть перепуганных Корниловым большевистских паханов сделает из генерала «заговорщика». Арестует его. И тем подпишет смертный приговор себе, России и народам ее, ввергнув их в кровавую пучину октябрьского переворота, гражданской войны, троцкистско–ленинского террора, сталинщины…
А пока дочь генерала Корнилова Наташа, Машенька, дочь Николая Оттовича, и жена его Мария Михайловна возьмут на себя всю переписку мамы по «братству». А князь Илья Леонидович Татищев — нелегкие заботы по защите.
По множеству вскоре — и неожиданно — возникших причин это мамино начинание вызвало сопротивление «высоких инстанций». То ли кому–то в военном министерстве или даже в придворной камарилье не понравилось, что инициатива какой–то никому не известной адъюнкторши возбудит «лишний» интерес к работе Скобелевского комитета, не делом занятого. То ли стыдно стало российскому обществу… А может, реакция общества японского или даже австро–венгерского кого–то задела? Ведь мама и туда написала — к своим бывшим подопечным в госпиталях Киото и Нагасаки. А как иначе–то, если к сходням–трапам «Эмпресс оф Джапен» в Йокогаме, когда «Япония прощалась с русскими медиками», съехались сотни ее бывших пациентов, чтобы еще и еще раз вместе с благодарностью выказать желание всегда быть полезными «доброй сестре Фанни–тян». Вот она и написала им в Японию о том, что писала российским участникам войны. В конце концов, и в Порт—Артуре, и в Киото, и в Нагасаки она вместе с другими российскими медиками спасала и русских, и японских солдат, офицеров, матросов! Напомнила всем, чьи адреса хранила, напомнила епископам храмов Кийомицудера–дефа в Киото и Гошинджи в Нагасаки. И быстро получила ответ — очень большую сумму в британских фунтах. Пришли деньги и из Ламберга (Львова) от друзей и коллег по Порт—Артуру — врачей Жени Поливняк и Григория Пивеня, Австро—Венгрия отозвалась!
Вмешательство доктора Столыпина, обратившегося напрямую к своему близкому родственнику Петру Аркадьевичу, российскому премьеру, а главное, энергичнейший демарш (иначе не назовешь) свитского генерала Маннергейма положили конец попыткам приостановить теперь уже не только мамину инициативу. В 1909 году в Петербурге, в старом здании военного лазарета по Литейному проспекту, состоялось собрание маньчжурцев. Первым выступил Карл Густав Маннергейм. С ходу он предложил «создать нечто подобное неформальной кассе взаимной помощи участников русско–японской войны». По его инициативе, всеми поддержанной, было «приговорено»: выходящие по выписке из госпиталей солдаты, матросы и офицеры, «ограниченные в средствах», не могут быть оскорбляемы… вспомоществованием! Поддержка их должна носить характер товарищеской взаимопомощи — дружеского и бескорыстного одолжения. Сразу явилось и название инициативе: «Маньчжурское братство». С этого дня инвалидам–маньчжурцам «братство» оказывало постоянную материальную поддержку и медицинский патронаж, подыскивало им и оплачивало квартиры, содержало их несовершеннолетних чад, а епископаты и клир — сиделок.
Читать дальше