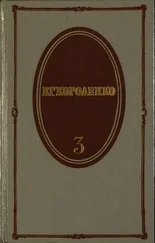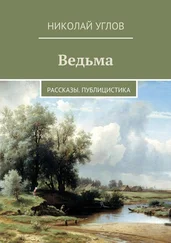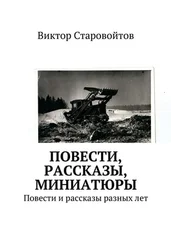Моя мама — участница пяти войн.
На первой — русско–японской — была она операционной сестрой Приватного лазарета петербургского врача Розенберга, «лейб–доктора» вдовствующей императрицы. В эту войну бросилась она вслед своему жениху — Мишелю Вильнаи, военному хирургу, оставив по его телеграмме медицинский факультет Сорбонны. В Маньчжурии оказался и приятель мамы с детства, друг ее кузины Екатерины Гельцер — Карл Густав Маннергейм. Вопреки «порядкам» при дворе, именно он удостоился любви Катерины, появившейся на сцене Мариинки после двухлетнего звездного дебюта в Большом театре. Не августейший назначенец, как это случилось с будущим Николаем II и Матильдой Кшесинской, а скромный улан покорил сердце «блистательной московской дивы». Двор «взорвался», и Катерину срочно вернули в старую столицу. Только уже ничто не могло теперь разлучить их— ни расстояния меж Москвою и Петербургом, ни восточная экспедиция Маннергейма, ни затяжные зарубежные гастроли самой Кати.
По возвращении в Россию и по окончании пятилетнего курса Медико–хирургической академии полтора года проработала мама нейрохирургом на двух Балканских войнах. Там, далеко от российской столицы, раскрылась ей сокрушающая страну мерзость окружения семьи Романовых. В частности, роль его в зачине войн 1904–1913 годов и его усилия в провоцировании будущей всеевропейской бойни 1914–1918 годов. Но главное — нескончаемые попытки его погубить любовь Кати и Густава. Маме, в ее восемнадцать лет еще в Порт—Артуре пережившей смерть мужа, было это куда как ближе всех проблем войны и мира!
…Начало века окончилось для нее гибелью любимого человека, падением Порт—Артура, работой в Японии, возвращением на родину через Америку… Она училась и практиковала в лазаретах Гельсингфорса, Ревеля, Вииппури и Петербурга. Туда, в реабилитационные клиники процветающих городов Балтии, судами Красного Креста Германии доставлялись с востока раненые русские солдаты, матросы и офицеры. Многие из этих несчастных прошли и мамин госпиталь в Маньчжурии и Порт—Артуре. Ее работа на войне, ее труд в Японии были с благодарностью оценены. Правда, сперва японским обществом — общество российское упивалось злорадством поражения в войне. Популярность маминого имени в Японии (в свое время она «выходила» члена императорской семьи Сейко Тенно) переросла почти в почитание, когда японская пресса раскрыла историю с ее предком Саймоном Шипером, которому она приходилась внучатой племянницей. Механик–инженер корвета «Геде» Королевского военно–морского флота Голландии, он в 1855 году с экипажем судна пришел на помощь терзаемому чумой городу–порту Нагасаки. Сделав свое святое дело, Шиппер заболел сам, 11 августа умер и был похоронен как герой на интернациональном кладбище Инаса. Через полстолетия, 18 сентября 1905 года, в сопровождении премьер–министра Японии Таро Кацура и мэра Нагасаки Иосуэ Норимото мама посетила святую для японцев и дорогую для нее могилу.
Кацуро–сан, несомненно осведомленный о деятельности Шиппера, очень подробно рассказал маме и репортерам о его «нагасакском подвиге». И вот тогда имя мамы стало широко известным. Настолько, что в 1906 году за Тихим океаном, в Северо—Американских Соединенных Штатах, где она проездом на родину гостила у своих техасских родичей, ее разыскал будущий российский патриарх Тихон, тогда епископ русской православной церкви, заканчивавший свою американскую каденцию. Они познакомились. Понравились друг другу. Во всяком случае, добрые отношения с этим неординарным человеком, длившиеся до последних дней его жизни, помогли маме до конца испить горькую чашу фронтового медика… А ведь по дневнику Дмитрия Ивановича Алексинского — о. Афанасия (друга торопецкого детства Васеньки Белавина — того самого Тихона), — «…и Патриарху было чему поучиться у этой светоносной женщины…».
Итак, когда мама начала работу в Балтии, ее узнали. И стали обращаться к ней со своими бедами — те же инвалиды проигранной войны. А проигравших общество не любит. Отворачивается от них. Как в наши дни от «афганцев». Множество инвалидов после выписки из госпиталей оставалось без средств к жизни. Сперва мама сама пыталась им помогать — заработок операционной сестры в частных лазаретах действующей армии был высок, приз, назначавшийся военным ведомством Японии русским медикам, изъявившим согласие добровольно работать в плену, был куда как выше. Да и новая ее служба в прибалтийских лазаретах армии оплачивалась высоко. Однако поток обращений, адресуемых теперь уже к ней напрямую, увеличивался. И к концу 1908 года все сбережения мамы растаяли. Бабушки — владелицы «Банкирского Дома» — это не касалось: у нее были собственные заботы. Кроме того, она справедливо полагала, что о российских инвалидах обязаны заботиться те, кто затеял войну и ответствен за ее результаты. И еврейская финансистка вовсе здесь ни при чем. Тем более взносы ее в фонды великой княгини Елизаветы Федоровны, искавшей себе богоугодных занятий после убийства Каляевым ее супруга, не шли ни в какое сравнение с неприлично мизерными взносами, которые делала августейшая сестра княгини и ее венценосный муж, между прочим, крупнейший землевладелец и рантье ХХ века.
Читать дальше