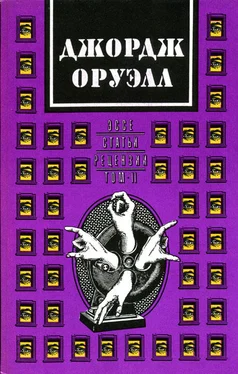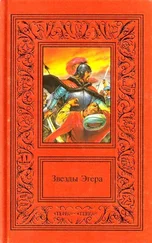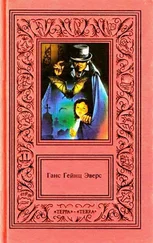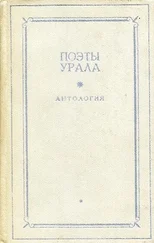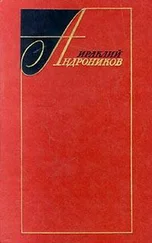Палач спустился вниз и, приготовившись, положил руку на рычаг. Казалось, проходили минуты. Ни на миг не прерываясь, равномерные приглушенные крики осужденного раздавались снова и снова: «Рама! Рама! Рама!» Начальник тюрьмы, склонив голову на грудь, медленно ковырял тростью землю; возможно, он считал крики, отпустив осужденному лишь определенное число их, — может, пятьдесят, может, сто. Лица у всех изменились. Индусы посерели, как плохой кофе, один или два штыка дрожали. Мы смотрели на стоявшего на помосте связанного человека с мешком на голове, слушали его приглушенные крики — каждый крик — еще один миг жизни, и у всех у нас было одно и то же желание: ну убейте же его поскорее, сколько можно тянуть, оборвите этот жуткий звук.
Наконец начальник тюрьмы принял решение. Резко подняв голову, он быстро взмахнул тростью.
«Чало», — выкрикнул он почти яростно.
Раздался лязгающий звук, затем тишина. Осужденный исчез, и только веревка закручивалась как бы сама по себе. Я отпустил собаку, которая тут же галопом помчалась за виселицу, но, добежав, остановилась, как вкопанная, залаяла, а потом отступила в угол двора. И, затаившись между сорняками, испуганно поглядывала на нас. Мы обошли виселицу, чтобы осмотреть тело. Раскачивавшийся на медленно вращающейся веревке осужденный — носки оттянуты вниз — был без сомнения мертв.
Начальник тюрьмы поднял трость и ткнул ею в голое оливковое тело, которое слегка качнулось.
«С ним все в порядке», — констатировал начальник тюрьмы. Пятясь, он вышел из-под виселицы и глубоко вздохнул. Мрачное выражение как-то сразу исчезло с его лица. Он бросил взгляд на наручные часы: «Восемь часов восемь минут. Ну, на утро, слава богу, все».
Стражники отомкнули штыки и зашагали прочь.
Догадываясь, что плохо вела себя, присмиревшая собака незаметно шмыгнула за нами. Мы покинули дворик, где стояла виселица, и, миновав камеры смертников с ожидавшими конца обитателями, вышли в большой центральный двор тюрьмы. Заключенные уже получали завтрак под надзором стражников, вооруженных бамбуковыми палками с железными наконечниками. Узники сидели на корточках длинными рядами с жестяными мисками в руках, а два стражника с ведерками ходили между ними и накладывали рис; эту сцену было так приятно и радостно созерцать после казни. Теперь, когда дело было сделано, мы испытывали невероятное облегчение. Хотелось петь, бежать, смеяться.
Шагавший подле меня молодой метис с многозначительной улыбкой кивнул в ту сторону, откуда мы пришли: «А знаете, сэр, наш общий друг (он имел в виду казненного), узнав, что его апелляцию отклонили, помочился в камере прямо на пол. Со страху. Не угодно ли сигарету, сэр? Разве не восхитителен мой новый серебряный портсигар, сэр!»
Несколько человек смеялись, похоже, сами не зная над чем. Шедший рядом с начальником тюрьмы Фрэнсис без умолку болтал. «Ну вот, сэр, ффсе прошло так, что и придраться не к чему. Раз — и готово! Соффсем не ффсегда так бывает, не-нет, сэр! Помню, бывало и такое, что доктору приходилось лезть под виселицу и дергать повешенного за ноги, чтоб уж наверняка скончался. В высшей степени неприятно!»
«Трепыхался, а? Уж чего хорошего», — сказал начальник тюрьмы.
«Ах, сэр, куда хуже, если они вдруг заупрямятся. Один, помню, когда мы пришли за ним в камеру, ффцепился в прутья решетки. И не поверите, сэр, чтобы его оторвать, потребовалось шесть стражников, по трое тянули за каждую ногу. Мы взывали к его разуму. „Ну, дорогой, — говорили мы, — подумай, сколько боли и неприятностей ты нам доставляешь“. Но он просто не желал слушать! Да, с ним пришлось повозиться!»
Я вдруг обнаружил, что довольно громко смеюсь. Хохотали все. Даже начальник тюрьмы снисходительно ухмылялся.
«Пойдемте-ка выпьем, — радушно предложил он.— У меня в машине есть бутылочка виски. Нам бы не помешало».
Через большие двустворчатые ворота тюрьмы мы вышли на дорогу. «Тянули его за ноги!» — внезапно воскликнул судья-бирманец и громко хмыкнул. Мы снова расхохотались. В этот миг рассказ Фрэнсиса показался невероятно смешным. И коренные бирманцы, и европейцы — все мы вполне по-дружески вместе выпили. От мертвеца нас отделяла сотня ярдов.
1931 г.
КАК Я СТРЕЛЯЛ В СЛОНА
(Перевод М. Теракопян)
В Моламьяйне, в Нижней Бирме, я стал объектом ненависти многих людей; с той поры моя персона уже никогда не имела столь важного значения. В городе, где я занимал пост окружного полицейского, ясно ощущались резкие антиевропейские настроения, правда, проявлявшиеся как-то бесцельно и мелочно. Выступить открыто не хватало духу, а вот если белой женщине случалось одной пройти по базару, платье ее часто оказывалось забрызганным соком бетели. Как полицейский офицер, я неизбежно становился мишенью для оскорблений, коим и подвергался всякий раз, когда представлялась возможность сделать это безнаказанно. Если на футбольном поле какой-нибудь шустрый бирманец подставлял мне подножку, а судья, тоже бирманец, демонстративно смотрел в противоположную сторону, толпа разражалась отвратительным хохотом. Такое происходило не один раз. В конце концов эти повсюду встречавшиеся мне насмешливые желтые физиономии молодых парней, эти оскорбления, летевшие вдогонку, когда я уже успевал удалиться на безопасное расстояние, начали изрядно действовать мне на нервы. Но невыносимее всего были молодые буддистские проповедники. В городе их насчитывалось несколько тысяч, и возникало впечатление, что у всех у них было одно-единственное занятие — устроившись на уличных углах, глумиться над европейцами.
Читать дальше