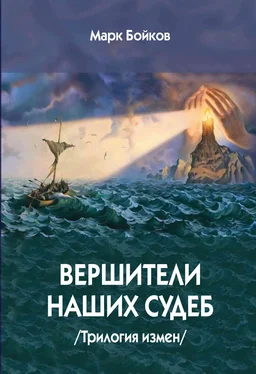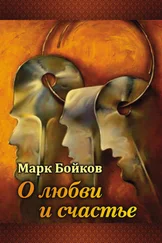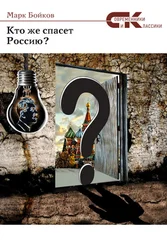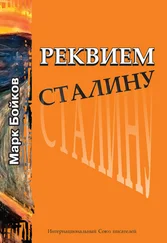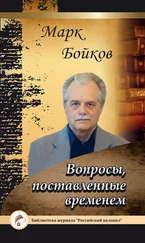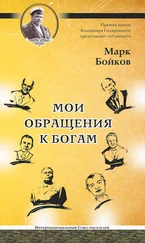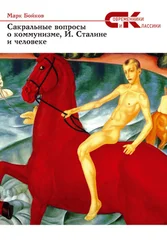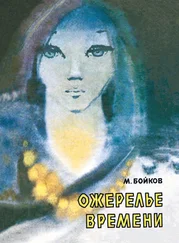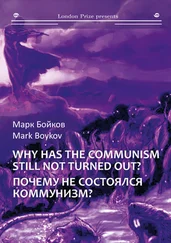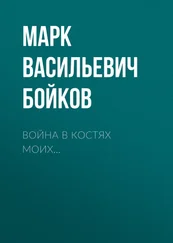Однако вопрос тогда стоял проще: не о выборе пути, а о причинах, тормозящих движение общества вперед. Давайте же попробуем, наконец, разобраться, с чего началась наша, непонятая до сих пор трагедия.
СТАЛИН И МАРКСИЗМ
Некоторые до сих пор во всем винят социализм, другие порочат марксизм-ленинизм, третьи причиной бед считают отступление от православия и монархической власти, четвертые ссылаются на утрату самосознания и идентичности, пятые – и так далее, и так далее.
Взглядов на события всегда огромное множество, но истина обычно одна, идущая от истоков. Раздор и хаос, как известно, рождаются в головах через утрату общезначимых скрепов, ценностей, ощутимых завоеваний движения. Россия, порванная в 1-ой мировой, истерзанная после революции в гражданской войне, осваивая строительство нового общества и находясь в окружении стран недоброжелателей, была вынуждена зачастую жертвовать, урезать, откладывать, ограничивая естественные запросы и потребности людей, чтобы попросту выжить.
Маркс-Энгельс предупреждали, что переход к коммунизму возможен лишь при одновременной революции во всех или большинстве развитых стран, поскольку в противном случае последние создадут единый альянс по подавлению цивилизаторской попытки страны-одиночки. Ленин, осознав превращение капитализма в империализм, чтобы спасти страну от окружавших ее воюющих хищников, повел рабочий класс в революцию, убедив партию, что, используя противоречия воюющих сторон, можно и должно прийти к победе революции, чтобы тем самым предупредить последующее ее поглощение объединившимися хищниками. Он доказал, что победа «сейчас» сделает невозможным ее поражение «потом», когда она во весь рост поднимется на собственном фундаменте. История, хотя и горькой ценой, подчеркнула прозорливость Ленина.
В этой обстановке весьма амбициозный политик Иосиф Сталин, взявший псевдоним от слова «сталь», не хотел быть пассивной тенью признанного вождя. Показательно следуя заветам, он прочно подчинил себе надстроечные структуры. И когда большевистская прослойка в партии начала численно редеть, по возрастным причинам, он решил основательно закрепиться на ее вершине.
По расчетам Ленина, социализм в стране должен будет наступить лет через двадцать. Он отмечал: «социализм будет тогда, когда не будет классов, когда все орудия производства будут в руках трудящихся»; «Будет диктатура пролетариата. Потом будет бесклассовое общество».
Сталин разделял этот взгляд. В Отчетном докладе XVII партсъезду 26 января 1934 г. он категорически заявлял: «Взять, например, вопрос о построении бесклассового социалистического общества . XVII конференция партии сказала, что мы идем к созданию бесклассового, социалистического общества. Понятно, что бесклассовое общество не может прийти в порядке, так сказать, самотёка» /выделено И.Сталиным/.
Самотёк Сталин не любил, и уже 25 ноября 1936 года, то есть через неполные три года, при принятии Конституции Союза ССР он провозглашает социализм победившим, с «совершенно новыми классами» и «сохранением диктатуры пролетариата».
С точки зрения марксистской теории все ясно: предмет, ради которого «сохраняются классы», это «диктатура рабочего класса». То есть классы нужны генсеку, чтобы сохранить диктатуру. Если же признать общество бесклассовым и считать его достигнутым, то «диктатура класса», при равенстве всех трудящихся граждан и слоев, становится ненужной.
Но Сталину в его целях была нужна именно диктатура, и он, будучи заинтересованным в ней, сохраняет ее в виде «диктатуры рабочего класса». По существу, под завесой рассуждений о классах и некой новизны их состоялся скрытный государственный переворот. Но не с целью репрессий, как многим кажется, а ради усиления и несменяемости личной власти.
Однако репрессии, происходившие и прежде, при реальной борьбе классов, теперь, в 1937-м, вспыхнули не из социальной неизбежности и стали не следствием приписываемой либералами «кровожадности» Сталину, а – как результат неуправляемости запущенных им процессов. Преследования и расправы стали безадресными и несправедливыми. Думается, Сталин сам этого не ожидал, но повернуть вспять, не сознавшись в подлоге, уже не мог. Ибо это значило отдать себя под суд.
Вместе с тем и инкриминировать одному Сталину сотни тысяч и миллионы загубленных жизней тоже неверно. Помимо неоправданности новых жертв, необходимо понять причину их массовости.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу