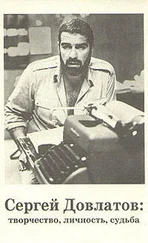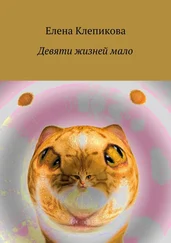На озере я плавал, несмотря на горную холодину, но если голубая цапля (почему, кстати, голубая, когда серая?) часами простаивала по щиколотку в воде, кого-то выслеживая, то чем я хуже? Это в пяти-шести часах от Нью-Йорка. Грибов – только солонухи, да в еловых иглах под слезоточивыми соснами проклюнулись склизкие шляпки маслят, но трогать не стал – красиво. Сакантага – индейское имя, но американы добавили еще «Великая», в смысле – большая. В самом деле – широкое, длинное, извилистое озеро, на нем стоит пара старых городков с заброшенными, музейными уже, ж.-д. станциями. К вечеру прошел дождь, прорезалось солнце, чуть-чуть выглядывая из-за облаков, а потом вспыхнула радуга и повисла над водой, и верхом на ее дальнем конце сидел Тот, с которым был заключен Завет, а радуга – не только распад белого на составляющие (проклятая физика!), но еще и знамение Завета:
Я полагаю радугу Мою в облаке, чтобы оно было знамением Завета между Мною и между землею.
И будет, когда Я наведу облако на землю, то явится радуга в облаке .
О радуге в облаке как знаке Завета, а тем более о явленном мне на радуге Боге я не стал никому сообщать – устыдился высокопарности и приберег для этой прозы, где нет места стыду.
Простоять октябрьскую неделю на берегу Сакантаги в горной холодине и мелких непрерывных сволочных дождях, пока не хлынул ливень, – это, конечно, подвиг. Буквально: мокрец всему! И вся защита – тонкие капроновые стенки нашей палатки да слегка утепленный спальный мешок. Превентивно – всемогущий аспирин, который я считаю высшим достижением человечества, учитывая открываемые им каждый год все новые и новые свойства (против инфаркта, против рака – при рутинном приеме). Плюс, конечно, вечернее томление, когда, сидя в машине, уже нет сил следить, как буквы складываются в сюжет, а ложиться спать, даже со снотворным, рано. Наша Мельбурн-авеню, моя теперешняя малая родина, которая одной стороной упирается в еврейский погост, где лежит Сережа Довлатов, а другой – в Куинс-колледж, виртуальная обитель жирафов, кенгуру и дикой собаки динго, вставала перед моими глазами как мираж, но, когда он рассеивался, я снова сквозь ветровое стекло видел Великую Сакантагу, как Моне писал Руанский собор во все времена дня, при любых метеорологических оттенках: туман стоял над озером, скрывая его очертания, или галопом несся над ним, как опасный безумец, – даже мне, вуайеристу, становилось не по себе, а то вдруг брызнуло солнце, озеро спокойно лежало передо мной, а за ним синели умбрские горы, описанные Александром Блоком и Вячеславом Ивановым.
Нетерпеливой Лене я напоминал слова из «Книги Иова»: «Если ты принимаешь от Бога хорошее, то почему отвергаешь плохое?» Тем более Он сам явился нам на своей радуге, оседлав ее как коня. «В мире есть только ты да я, но ты уже совсем состарился», – обращался к Нему один поэт, сам возомнивший себя Богом.
Да, хочу только хорошего, тем более на исходе моего жизненного срока! Никакой экстраординарщины в моей бессобытийной жизни! Кроме моей смерти, но она по ту сторону жизни, другая жизнь, наоборотная, метафизическая, виртуальная, – там, за завесой дождя.
А дождь все идет и идет – наперекор прогнозам. Про вчерашний непредсказуемый я объяснил Лене, что это завтрашний предсказуемый, но что сказать про сегодняшний? Безнадега. «Я сначала дождь любила, а теперь люблю окно» – вот именно. У нас шесть окон в машине, и по ним стекают дождевые потоки.
Одно к одному: неожиданно вышли из строя пропановые баллончики, и мы теперь на холодном пайке, запивая его горячим чаем (электрические чайнички), – и на том спасибо. Даже китайская забегаловка в ближайшем Нортвилле оказалась из рук вон дурной – особенно в сравнении с аутентичными блюдами в нашем куинсовском Чайнатауне.
Странная штука, но, вернувшись в Нью-Йорк и помня о преследовавшей нас подлюге непогоде, я все чаще думал об этом лесном кафедрале из высоченных, уходящих в небо, а иногда многоствольных соснах с вязким пахучим соком на золотистой чешуе, который, если засыхал и обрастал пепельным покровом, надо было на него подышать, чтобы вызвать прежний терпкий аромат древесной смолы (школа Лены Клепиковой). И не однообразно вечнозеленые ветви, а с ржавыми мертвыми вставками, и вся земля была усеяна рыжими иглами и пружинила под ногами: если подпрыгнуть – то к небосводу. На своем веку я повидал немало классных кафедралов, дуомо, соборов – один семибашенный в Лане чего стоит! – не говоря о классических в Реймсе, Шартре, Руане, Страсбурге, Флоренции, Бургосе, Милане, Кёльне, Нотр-Дам наконец и проч., но теперь не знаю, какой кафедрал лучше, – каменный или сосенный, рукотворный или нерукотворный? Да и есть ли такое противостояние, если творящие руки сами сотворены Творцом? Человек заместитель Бога на земле, оба – творцы, гений – прямое доказательство существования Бога, созданное гением создано при Его прямом участии, под Его диктовку: Парфенон, Реквием, Божественная комедия, Дон Кихот, теория относительности. Я уж не говорю о созданном самим Богом – Библии: Иов, Исайя, Иезекииль. Где разница между руко– и нерукотворным? А возомнивший себя Богом Виктор Гюго, который на самом деле Виктор Юго́, тот и вовсе считал, что художник творит наравне с Богом.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу