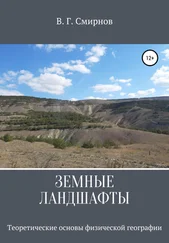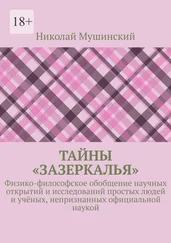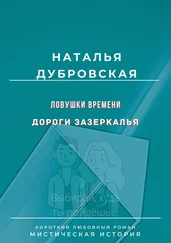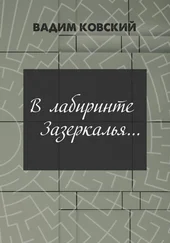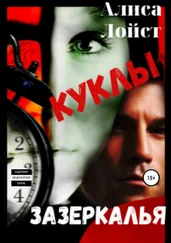Таким образом советский литературный процесс просуществовал в разгуле демократии какие-нибудь полтора десятка лет — до начала серьезных политических процессов и воцарившегося после них всеобщего ужаса, а потом безропотно вступил в фазу, когда большевиками уже не только не приходилось дважды повторять свои указания, но вполне достаточно было, что называется, просто шевельнуть бровью. Все прекрасно понимали, что наступило время, когда при господстве единственной политической партии, доказавшей в эпоху Гражданской войны, индустриализации и коллективизации, что она шутить не будет, возделывать свой индивидуальный огород в общем хозяйстве уже невозможно.
По самому замыслу и характеру произведенных действий Постановление сегодня кажется мероприятием почти невероятным. Партия теперь находится не вне литературы, как в 1925-м. Она внутри литературы, она говорит ее голосом. Это не столько постановление, сколько чревовещание. Однако чревовещанием партийное попечительство в области культурной политики отнюдь не ограничивалось. Были сразу же назначены сроки проведения Первого съезда Союза писателей — 1934 год — и утверждены докладчики на нем. Тезисы докладов должны были быть представлены на рассмотрение и утверждение в ЦК партии. О ходе подготовки съезда, составе делегаций на нем и настроениях писателей (в том числе и об их старых политических грехах) секретно-политический отдел НКВД неоднократно докладывал Политбюро в своих спецсообщениях. Чекисты даже перехватили в дни работы съезда антисоветскую листовку в форме письма российских писателей к зарубежным деятелям культуры. Принято оценивать это письмо, без особых доказательств, как подделку, фальшивку, но трудно удержаться от соблазна процитировать некоторые ее тезисы: «Страна вот уже 17 лет находится в состоянии, абсолютно исключающем какую-либо возможность свободного высказывания <���…> за наше поведение отвечают наши семьи и близкие нам люди <���…>. В СССР существует круговая система доноса» и т. п.
Отдельные писатели повели себя непредусмотрительно и перед съездом, в кулуарах съезда или в частных разговорах отзывались о нем без должного пиетета или даже резко критически. Эти высказывания НКВД внимательно фиксировал. «Все думаю, как бы поскорее уехать — скука невыносимая…» (М. Пришвин). «Все-таки хожу сюда сам не знаю зачем. Ведь сознаю отчетливо, что мне в этой лакейской не место» (В. Правдухин). «Доклад Горького… очень тяжелое зрелище: в выступлении не чувствовалось ни грамма энтузиазма» (П. Романов). «…съезд проходит мертво, как царский парад, и этому параду, конечно, никто за границей не верит. Пусть раздувает наша пресса глупые вымыслы о колоссальном воодушевлении делегатов» (И. Бабель). «Доклад Бухарина поверхностный, но талантливый и темпераментный. А в прениях вылезли все пауки из банки…» (Б. Лавренев). «Смехотворные речи, над которыми следующие поколения будут издеваться… И я и Клычков поставлены в ужаснейшие условия… Мы доживаем наши дни в литературной блевотине» (П. Орешин).
М. Горький отказался возглавить вновь созданный Союз, и во главе был поставлен А.С. Щербаков, заведовавший в то время отделом культурно-просветительской работы ЦК ВКП(б). В 1935 году он повез делегацию советских писателей на Парижский конгресс в защиту культуры, и его дальнейшая успешная партийная карьера (впоследствии он был секретарем МК и секретарем ЦК) свидетельствовала, что номенклатурные партийцы годятся для любых обязанностей — лишь бы партия велела…
Писательским съездом Политбюро, надо полагать, осталось довольно. Были избраны правление, ревизионная комиссия, и машина исправно заскрипела. Параллельно с Союзом писателей произошла организация творческих союзов по всем направлениям искусства; затем был установлен надзор за этими творческими союзами со стороны Комитета по делам искусств; затем — надзор над самим Комитетом в соответствующих центральных партийных органах и т. д. и т. п.
Постоянно упражнялись в литературной критике вожди ленинского призыва, весь этот «тонкий слой» интеллектуальной большевистской элиты, концептуально продумывавшей и редактировавшей наиболее важные партийные постановления по вопросам литературы, культуры, издательского дела. Идеологические понятия, установки и позиции проецировались на художественное сознание и саму литературу, непосредственно сказываясь на типологии персонажей, конфликтах и общем звучании произведений. Ленинские теоретические разработки и тезисы партийной публицистики перелагались на язык литературной критики. Бухарин, Троцкий, Луначарский сами были незаурядными публицистами и критиками.
Читать дальше

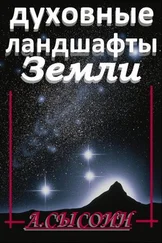
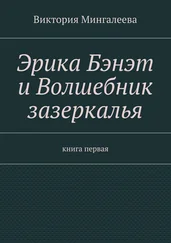
![Ольга Куно - Семь ключей от зазеркалья [litres]](/books/384216/olga-kuno-sem-klyuchej-ot-zazerkalya-litres-thumb.webp)