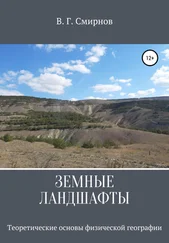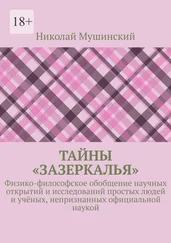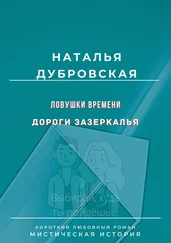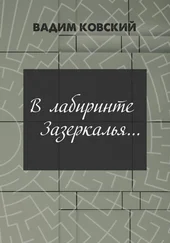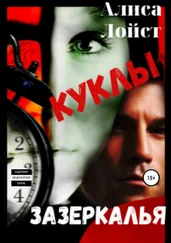Непосредственно о «мастерах» писали другие авторы, выразительно дополняя и углубляя социальную панораму постигших российское общество фантасмагорических потрясений. Некоторые произведения этого плана, например, «Шоколад» Александра Тарасова-Родионова или «Повесть непогашенной луны» Бориса Пильняка, отнюдь не случайно выключенные из читательского обихода на многие десятилетия, поражают и по сей день остротой художественного зрения, проницательностью анализа той «теории зла», существование которой предполагал горьковский Карамора.
В «Шоколаде» в самых разнообразных своих аспектах развернута концепция классовой борьбы и классовой этики. Воспроизведен там и наиболее общий, пропагандистски-идеологический ее слой, лозунговая демагогия вроде «Мы, коммунисты… бьемся сейчас в кровавой борьбе за счастье всех обездоленных капиталистическим рабством…». Но затем слой этот наполняется сюжетными подробностями, прописывается психологически, обретает плоть в фигурах персонажей. И по мере повествования становится все зримее и страшнее, все кровавее в прямом и буквальном смысле слова.
Председатель могущественной чрезвычайки большого города» («губчека») Зудин, главный герой повести, оправдывает Красный террор следующим образом: «Я взял да и ударил по классу. Я уничтожил первых встречных из их рядов <���…> я совершенно не считался с их виновностью. Разве вообще виновность существует? Разве вообще буржуй виноват, что он буржуй, а крокодил виноват, что он крокодил?!» Есть во мне «дивный, вечно живой и могучий родник <���…> — чувство класса <���…> из него только и пью я и личное, высшее счастье», — пытается объяснить Зудин бывшей балеринке, «проституточке» Елене Валентиновне Вальц. Она взята им на работу в ЧК в минуту слабости, инстинктивно («Сфилантропил», — кается чекист жене). Весь конфликт на том и построен — на борьбе классового с инстинктивным, «подпольным». Зудин отчаянно сопротивляется физическому влечению к секретарше, но на какие-то компромиссы со своей классовой непримиримостью все же идет, и партия ему этого не прощает.
Фигуры чекистов и партийцев откровенно романтизируются. Причем постоянно подчеркивается, что партия — это и есть ЧК. Идеи и идеалы пропагандируются впрямую, в многочисленных пафосных речах и репликах персонажей, в символических сценах борьбы рабочего класса с «хозяевами жизни». Столь же впрямую разоблачается «мещанство». Трудно не вспомнить тут ироническую усмешку Вагинова по поводу «девицы Плюшар» в романе «Труды и дни Свистонова». Та считала, «что литература должна учительствовать». Или инкассатора Дерябкина, который «ночей недосыпал, все думал, как бы уберечься от этого зла» — мещанства… И вместе с тем «Шоколад» представляет одно из самых неожиданных и удивляющих произведений русской прозы 1920-х годов. Объективное содержание его гораздо шире авторской позиции, обусловленной конкретным временем, и как будто бы адресовано современности, открывая возможность исторически актуальных интерпретаций. В сюжетно-психологических поворотах предугадан чудовищный механизм партийного «самооговора», признания несуществующей вины, если это необходимо партии в ее политике манипулирования сознанием масс. Тут та же логика фабрикации Сталиным политических процессов второй половины 1930-х, которая была использована значительно позже в романе Артура Кестлера «Слепящая тьма».
Отвергая категории индивидуальной этики, принося интересы личности в жертву интересам класса, герой «Шоколада» сам становится заложником партии и уничтожается, вернее самоуничтожается, при первой надобности. Люди уже поверили, что он виноват, и нельзя пренебречь этой коллективной анонимной верой. Происходит сие с той же легкостью, с какой и он уничтожал арестованных в застенках своего «губчека». «Надо что-то сделать, и сделать жестокое, страшное, иначе все наше дело погибнет», — доверительно сообщает в последнем разговоре с Зудиным член осудившей его комиссии, «старый работник партии» Ткачев.
Одним из первых в советской литературе Тарасов-Родионов прикоснулся и к теме внутрипартийной борьбы. Причем не той борьбы с «буржуазными перерожденцами» или политической оппозицией, которая была многократно описана в произведениях 1920-х и 1930-х годов. А борьбы за власть, надежно скрытой за парадным фасадом классовой демагогии, борьбы между единомышленниками, возможно, даже более мрачной и беспощадной, чем с классовыми врагами. «А теперь, когда они так сказочно выиграли и через сени революции национальной вдруг неожиданно легко вышли в огромные хоромы революции мировой, — горестно размышляет арестованный Зудин, — вот теперь-то где же эта былая товарищеская спайка, братское самопожертвование и честная искренность друг к другу?.. Поделом наивным простофилям, верящим в братскую честность старых товарищей по партии. Оказывается, и тут надо: на войне как на войне!»
Читать дальше

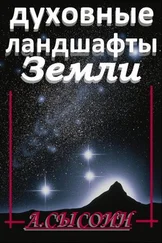
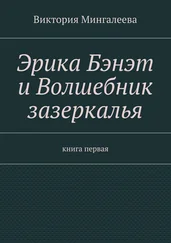
![Ольга Куно - Семь ключей от зазеркалья [litres]](/books/384216/olga-kuno-sem-klyuchej-ot-zazerkalya-litres-thumb.webp)