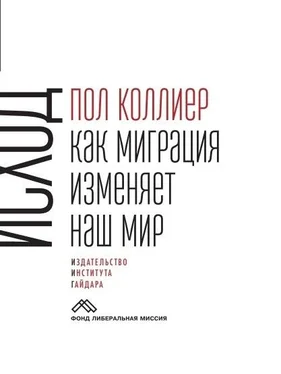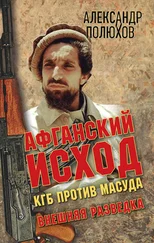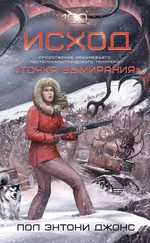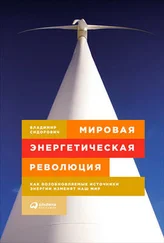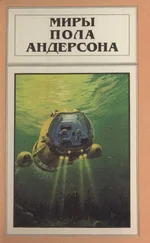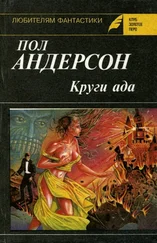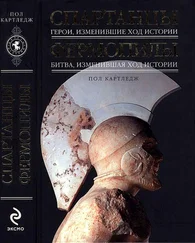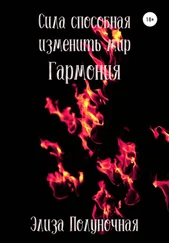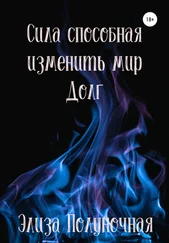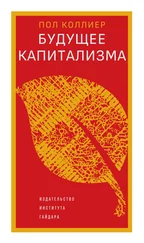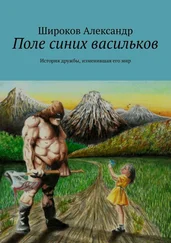Долгосрочное влияние миграции на экономический рост измерить сложно. Сама по себе иммигрантская исключительность, похоже, сохраняется лишь в среднесрочном плане: с течением времени потомки мигрантов смешиваются с окружающим населением. Таким образом, одним очевидным долгосрочным эффектом миграции является рост населения. При высоком уровне доходов не существует практически никакой связи между численностью населения страны и ее доходом, поэтому нам так или иначе не стоит ожидать серьезного долгосрочного влияния миграции на экономику. Люксембург, Сингапур, Норвегия и Дания, имея небольшое население, входят в число мировых лидеров по объему дохода на душу населения. Таким образом, полезно ли большое население для страны или вредно, зависит в первую очередь от соотношения между численностью ее населения и площадью территории, пригодной для использования в экономике. В число явно недонаселенных стран входит Австралия: всего 30 миллионов человек на целый материк. Макс Корден, выдающийся австралийский экономист, убедительно доказывает, что Австралии пошел бы на пользу значительный прирост населения [59] Corden (2003).
. На другом конце спектра находятся Англия и Нидерланды — самые густонаселенные страны в Европе и одни из самых густонаселенных в мире. При такой высокой плотности населения открытые пространства становятся здесь редкостью. По мере роста населения они не только более интенсивно используются, но и сокращаются вследствие роста потребности в жилье и инфраструктуре, и потому значительная чистая миграция вряд ли способна принести этим странам долгосрочную чистую прибыль и в конечном счете не сможет продолжаться неограниченно долго [60] Nickell (2009).
.
Присущая иммигрантам склонность добиваться успеха в среднесрочном плане способствует экономическому росту и потому выгодна для коренного населения. Но, как и в случае с миграцией вообще даже непропорционально большие успехи мигрантов при достижении некоего предела способны превратиться в проблему. Успехи иммигрантов могут деморализовать наименее преуспевающие слои коренного населения, вместо того чтобы вдохновлять их. В Америке дети иммигрантов в среднем лучше образованны и больше зарабатывают, чем дети коренного населения [61] Card (2005).
. В Великобритании хронической социальной проблемой является отсутствие устремлений у детей из рабочих семей — черта, полностью противоположная свойственной иммигрантам нацеленности на успех. Как первая, так и вторая наклонность сплошь и рядом оказываются самоисполняющимися. Десятилетия разрушенных надежд привели к тому, что среди низших слоев коренных британцев возобладал фатализм: не пытайтесь ничего изменить — и вы избежите разочарования. Сравнение с преуспевающими мигрантами лишь укрепляет уверенность в неизбежности провала. Даже те дети иммигрантов, у которых в семье говорят не по-английски, сейчас показывают более высокие результаты, чем дети из нижней половины коренного рабочего класса. Деморализацию может усугублять конкуренция: те дети рабочих, которые сопротивляются давлению со стороны общества, ожидающего, что и они станут неудачниками, по сути состязаются за пространство на эскалаторах — роль которых выполняют колледжи и программы профессиональной подготовки — с детьми мигрантов, стремящихся к успеху. Более того, проблемы, встающие перед детьми иммигрантов — незнание языка и дискриминация, — являются конкретными и могут быть решены посредством достаточно активной политики; собственно говоря, они уже решаются. Однако при этом возникает опасность пренебрежения более расплывчатой и сложной проблемой отсутствия стремлений у некоторых слоев коренного населения.
Гиперуспехи мигрантов могут вызывать проблемы даже в той среде, где успех — дело обычное. Восточноазиатские «матери-тигрицы» прославились тем, что добиваются от своих детей выдающихся достижений. Методы, которые при этом используются, носят неоднозначный характер — есть мнение, что в жертву успехам приносятся нормальные детские радости: игры и фантазии. Поэтому иммиграция выходцев из Восточной Азии в общество, практикующее менее эффективные методы воспитания, вполне предсказуемо приведет к тому, что самые лакомые места в учебных заведениях достанутся данному слою иммигрантов. Например, в Сиднее, главном городе Австралии, школа, традиционно считавшаяся лучшей в городе, сейчас примерно на 90 % заполнена детьми из восточноазиатских семей. Азиатские дети составляют около 70 % учащихся в лучших государственных школах Нью-Йорка — таких, как Stuyvesant и Bronx Science . Умные дети из числа коренного населения вытесняются из этих школ. Разумеется, подрастающее поколение австралийцев и американцев, скорее всего, окажется умнее, чем оно стало бы при отсутствии этой конкуренции со стороны энергичных иммигрантов. В некотором важном смысле австралийцы и американцы в целом выиграют от этой демонстрации талантов. Тем не менее мы также вправе отметить, что «сверкающие призы» успеха достанутся меньшему числу детей из коренных семей. Что ждет для себя коренное население в этой ситуации: чистую прибыль или чистый убыток, — в принципе вопрос открытый. Можно отметить такой малоизвестный факт, что многие североамериканские университеты де-факто вводят у себя квоты на прием восточных азиатов. Некоторые британские частные школы судя по всему прибегают к расовой дискриминации противоположного характера: между ними идет такая серьезная конкуренция за рейтинг, зависящий от выпускных оценок, что брать на обучение непропорционально большую долю восточноазиатских учеников становится заманчиво легким путем к успеху. Децентрализованная скрытая дискриминация со стороны университетов и школ, несомненно, неэтична, хотя она представляет собой естественный ответ на пробелы в государственной политике. В свою очередь, эти пробелы являются следствием табу на публичное обсуждение вопроса.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу