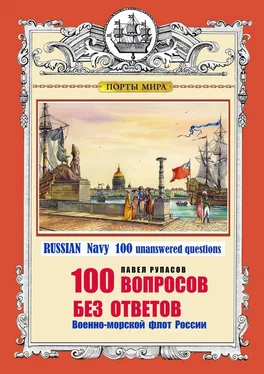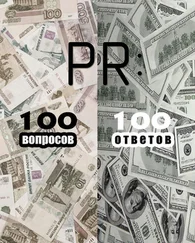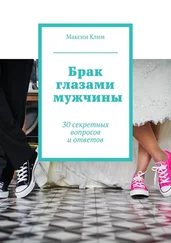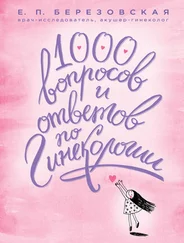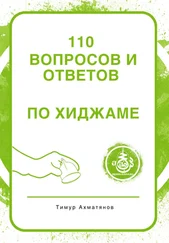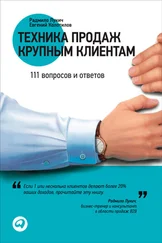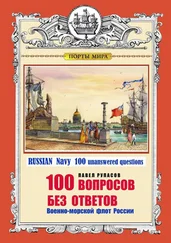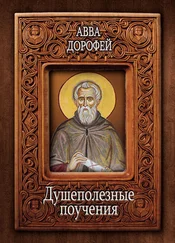Экспонаты ушедшей эпохи так громоздки и, увы, подразрушены, что, наверное, никакая «эпичность» их не спасет… и они последуют вослед аккуратно разобранным витринным шкафам сталинского времени. Шкафы были разобраны, уложены в штабеля и подготовлены к утилизации. Философия — противоположности борются: при острой нехватке в музее подмодельных витрин эти сталинские витрины и шкафы настолько прекрасные, насколько требуют ремонта. Ремонт старинной мебели сложнее, чем «ремонт» ДСП-шкафов, заключающийся в их простой утилизации каждые 8—10 лет, поэтому старинные шкафы, увы, во всех залах и во всех помещениях фондов (под залами в музее 6,5 тыс. метров, а под фондами и мастерскими — остальные 20 тыс. метров), замещаются «икеевскими» витринами из прессованной бумаги. Аккуратненькие, серенько-дешевые и «одноразовые» — обветшают, ремонта не требуется, легко заменяется на такие же новые (кругооборот вещества витрин и денег в природе)…
Зиккурат с «сакральным местом Зевса» существовал еще в музее 1908 года — этот зал с «зиккуратом-ротондой», видимо, самый большой в музее дореволюционных времен, назывался «Пантеон», есть его целых три фотографии на стр. 71, 72, 73 книги С. Огородникова.
ЦВММ, имея 70 000 единиц хранения в фотофонде, 266 000 единиц хранения в изобразительном фонде… и всего около 800 000 единиц хранения во всех своих коллекциях, — о «себе самом» ЦВММ не только не имеет воспоминаний, но так же имеет ничтожно мало фотографий. Так мало, что «дело дошло» до того, что из десятилетия в десятилетие музей представляет в своих юбилейных изданиях одни и те же музейные интерьеры, числом не более 30 фото. Нового показать из истории самого себя и собственно музея нечего? Хотя фотография вошла в широкий обиход в середине 19 века, то есть 170 лет назад. За эти прошедшие уже скоро «два века» фотографий, рисунков, картин собственно музея (его внутренних интерьеров, убранства, экспозиций, выездных экспозиций, сотрудников, парадных коллективных портретов) либо фотографий за работой, в командировках на боевых кораблях, на фронте и после Великой Победы, видимо, так мало, что просто их нет, и нам каждый раз показывают «одно и то же». Это наблюдение мы проследили по изданиям начиная с 1908 года. Фотографии из книги Огородникова 1909 года, где в репринтном издании 2004 года их 66, и 32 из них с тех пор копируются из издания в издание. Почему так, мы ответить не можем.
Тогда вопрос к Нехаю: Руслан Шамсудинович, почему 32 исторических фото с видами музея демонстрируются из альбома в альбом сто лет подряд? Фото- и изофонд в сумме представляют коллекцию в 330 тысяч единиц хранения, что, «ничего новенького» показать невозможно?
Но ведь тем же самым грешит и выставочная деятельность! Сотрудники музея с возмущением показывают друг другу предметы, которые на временные выставки «спускают» из залов постоянных экспозиций. И это не единичные случаи. Это постоянная практика… На устройство временных выставок постоянно используются 1-2-3-5 и более экспонатов, которые демонстрируются в 1—19 залах постоянных экспозиций. И после завершения временных выставок экспонаты вновь занимают свои старые места в залах постоянных экспозиций. Мы будем объяснять читателю, насколько это неприлично для музейной практики. И пусть людям, пришедшим в музей впервые, это и не заметно, но музейная этика предполагает, что, придя на вновь открывшуюся выставку, люди увидят там «новое и небывалое», то, что давно или никогда никто не видел, и вот, «о чудо», увидели — перемещенное со второго этажа…
Мы думаем, что изложенному факту много причин, но основная все-таки — поспешная подготовка выставок, «за 22 дня». Здесь по запросу читателей мы можем привести копии методических разработок, регламентирующих типовой план подготовки выставок, из 4—5 этапов, занимающий каждый по одному а то и два месяца: подбор предметов к запланированной выставке, реставрация подобранных предметов, описание подготавливаемых предметов и т. д. И на каждый этап отводится не менее 30 календарных дней… Руслан Шамсудинович, «спешка приводит к депрессии», как было написано на стенах мастерской художника Александра Жерноклюева. Добавим от себя: при лишней поспешности пропорционально падает качество производимой Вашим музеем работы.
Наше внимание на данном участке «Хроник ЦВММ» занимали групповые фотографии сотрудников музея. На редком фото 1934 года видно, как изменились люди, по сравнению с 1908 годом: на фото 1908-го все «холеные да усатые», с медалями, даже все сторожа и вахтеры при наградах и в военно-морской форме. На фото 1934 года все стоят в демократических позах, трое курят, у одного руки в боки, особенно расслабленно и по-купечески получился фотограф. Один только заместитель начальника музея Данилов (без инициалов) стоит в напряженной позе — руки по швам… На военных белые фуражки (июль), тульи фуражек «минимальные», в отличие от тулий 1980-х годов и вплоть до наших дней, когда у некоторых офицеров фуражки в народе называют «аэродромами»…
Читать дальше