Потому что праздник. Потому что вообще все хорошо в этом мире, и все целы.
Какое такое диссидентство? Вы что! Мы и слова-то такого не знали. И не скоро еще узнали.
Но страшно почему-то не было. Мы не боялись совсем. Даже и в голову такое не приходило. И даже взрослые почему-то не боялись.
А все потому, что мы все находились под надежной защитой самого языка. Который сам знал лучше всех, как надо и как правильно. Который и был во все времена самый главный диссидент. И главный защитник.
* * *
В эти дни одним из самых частотных слов русского языка стало слово, слегка нагруженное “шпионскими” коннотациями. Это слово “явка”. Слово это разнообразилось различными контекстами и украшалось различными эпитетами типа “высокий” и прочими его синонимами. Приходилось не раз и не два натыкаться на “бешеную явку”. (“Бешенство явки”, — автоматически сформулировал я.)
Впрочем, для меня самым ключевым и, более того, тревожно сигналящим словом показалось вовсе не слово “явка”, а совсем другое, до боли, как говорится, родное и неизбывное. Потому что в связи с этой самой “бешеной явкой” регулярно отмечалось, причем с разными, иногда диаметрально противоположными оттенками эмоций — от детского восторга до отчетливого омерзения, — что на избирательные участки выстраивались длиннющие очереди. Даже и за границей. Или за границей — даже особенно. В общем — очереди.
Очереди.
Когда-то давно, в советские годы, принято было считать, что между такими фундаментальными и системообразующими явлениями, как “очередь” и “дефицит”, существует прямая и непосредственная причинно-следственная связь.
Она, эта связь, и правда существовала. Но не вполне прямая.
Я думаю, что такая важная категория, как “дефицит”, имевшая, как принято считать, сугубо политико-экономические причины и свидетельствовавшая о вопиющей неэффективности плановой экономики, нагружена еще и глубинным метафизическим смыслом.
Смысл этот в том, что советский человек должен стоять в очереди. Потому что очередь — это самая устойчивая, самая несокрушимая модель общественного устройства. Потому что новые граждане первого в мире социалистического государства, в одночасье лишенные привычного и рутинного церковного “стояния”, все равно должны были где-то “отстоять службу”. Так что в феномене “очереди” можно усмотреть также и квазилитургическую составляющую.
Очередь — один из важнейших мифообразующих факторов советского космоса. Появление хлебных очередей зимой 1917 года послужило детонатором мощного взрыва, уничтожившего трехсотлетнюю российскую монархию. А катастрофическое по своим геополитическим последствиям исчезновение очередей в начале девяностых ознаменовало конец советской империи.
Очередь в гораздо большей степени, чем, например, семья, или же, допустим, трудовой коллектив, или, скажем, школа, являлась универсальной и самоорганизующейся ячейкой общества. Жесткие иерархии устанавливались там естественным путем, причем не по вертикали (ниже- или вышестоящие), а по горизонтали (впереди — позади). Многолетняя терминологическая дискуссия на тему “как правильно” — “крайний” или “последний” вносила в монотонно-мрачноватую и неизбывно агрессивную атмосферу “очередестояния” элемент коммунального интеллектуализма.
Именно очередь как социально-культурный феномен формирует этические и интеллектуальные нормы социального поведения.
Все те, кто по разным причинам не встроился в вертикаль, те выстроились в горизонталь, то есть встали в очередь. Очередь — это вроде как та же “вертикаль”, только положенная набок.
Очереди жанрово различались. Особняком стояли очереди, как сказали бы теперь, виртуальные. То есть ты сидел дома и пил чай, или ехал в троллейбусе, или обжимался с барышней на скамейке в городском парке, но при этом ты стоял в очереди. Например, за холодильником. Или за мебельным гарнитуром. Или за, допустим, ковром…
Не забудем также и о знаменитых винных очередях времен ранней перестройки, об очередях, в которых пришлось не раз и не два простоять в том числе и автору этих строк. А потому автор этих строк с полным знанием дела ощущает себя вправе утверждать, что эти самые очереди стали риторическим полигоном для многотысячных демократических митингов, возникших парой годов спустя.
Случались очереди и вовсе странные, очереди практически концептуалистского свойства, очереди ради очередей. Одна из таких мне ярко запомнилась. Помню, как неким весенним днем я шел по Цветному бульвару и увидел очередь человек из пятнадцати. Ничего вроде бы особенного — очередь и очередь. Необычность этой очереди заключалась лишь в том, что при явном наличии субъектов очереди наблюдалось полное и хорошо заметное отсутствие ее объекта. То есть, говоря проще, это была очередь ни за чем, ибо первый, кто стоял в этой самой очереди, упирался лицом в глухой забор строительной площадки. И, видимо, эта сцена так впечатлила меня, что я даже зачем-то запомнил, что забор этот был выкрашен в грязно-зеленый военизированный цвет.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу





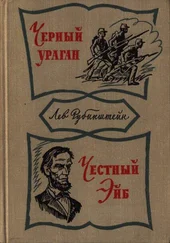
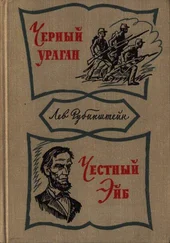



![Лев Рубинштейн - Что слышно [сборник]](/books/422824/lev-rubinshtejn-chto-slyshno-sbornik-thumb.webp)
