“Моя Марусечка! Моя ты куколка!” — неслось из разных окон. Его певческая манера, его интонации были какими-то неуловимо, но явно несоветскими. Это, видимо, тайно подкупало.
Гораздо позже я задумался над интересным и довольно странным по тем временам социально-культурным обстоятельством. Лещенко ведь был практически официально запрещенным в нашей стране исполнителем. А при этом почти в каждом доме не только лежали его пластинки, привезенные фронтовиками из разных европейских мест, но и вполне открыто звучали. Что это было? Низовой, народный акт гражданского неповиновения? Не знаю. Но это было.
С раннего детства до моего слуха в различных контекстах доносились два до поры до времени загадочных имени, произносимых почему-то всегда парно и всегда почему-то с некоторым понижением голоса — “Лещенко и Вертинский”. Хотя у Вертинского, как я потом узнал, судьба была не столь трагичной, как у Лещенко. Но все равно.
“И под шипящие пластинки ушли блаженные года…” Ушли-то ушли, но, кажется, не так уж далеко. Разглядеть можно.
* * *
Иногда всеобщая массовая встревоженность напоминает мне необъяснимую встревоженность человека, когда за стеной его квартиры неожиданно и, как потом выясняется, совсем ненадолго, замолкает бесконечный и невыносимый звук электродрели.
* * *
До сих пор изумляющему меня факту моего появления в этом мире предшествовало и способствовало множество знаменательных событий. Не только таких грозных исторических событий, как, например, голод на Украине, который чудом пережила моя мама, или война, в которой оба моих родителя выжили благодаря лишь ряду счастливых случайностей. Но были события, можно сказать, забавные, почти анекдотические, хотя от этого не менее фатальные. Одно из них было связано с именем собственным, точнее с фамилией.
В детстве я обожал рассматривать семейные фотоальбомы. Родственников — и живых, и к тому времени уже умерших или погибших — было множество. И отец, и мать выросли в многодетных семьях — отец был младшим из шести братьев и сестер, мать — младшей из пяти. Своих бабушек я застал, а дедов не знал ни одного.
Кроме бесчисленной родни, в альбомах было множество отцовских и материнских друзей юности или фронтовых товарищей.
Я расспрашивал маму о неизвестных мне людях, и она охотно рассказывала. Среди прочих фотографий была одна, которая меня интриговала особенно, но о ней-то как раз мама упорно умалчивала, говорила: “потом как-нибудь расскажу”.
На фотографии, собственно говоря, была изображена моя мама в студенческом возрасте. Но мамино изображение занимало лишь половину фотографии, другая же была оторвана, причем неровно и явно нервно. Оторванная часть меня-то как раз и занимала. Тем более что на обратной стороне было написано химическим карандашом:
Я и Миша Хр
1935, Хар
“Хар” — это, понятно, “Харьков”: я знал, что мама училась именно там. А вот “Хр”?
“Да потом”, — отмахивалась мама.
“Потом” все же наступило. И наступило оно тогда, когда я уже был совсем взрослым и когда моего отца уже не было в живых.
“А все-таки, что это за разорванная карточка”, — спросил я ее в очередной раз.
“На этой карточке, — рассказала она наконец-то, — был кроме меня один мой институтский друг. Его звали Миша. Он был в меня влюблен, да и мне он тоже нравился. Очень красивый и добрый парень. И он делал мне предложение. А я отказалась”.
— А почему?
— Ну, дура была потому что. Потому что у него была такая фамилия… А я как представила себе, что мои дети будут носить ту же фамилию…
— Да, да, помню, “Хр”. А дальше?
— Его фамилия была Хряпа. Миша Хряпа.
— И только из-за этого? Смешная, конечно, фамилия. Но только из-за этого… И ты не жалела никогда?
— Чего ж жалеть? Тогда бы не было тебя.
— Забавно… А почему разорвана-то?
— А! Так это папа когда-то порвал. Увидел и порвал. Он почему-то очень долго ревновал меня к этому Мише. Странно…
* * *
Мне уже почти месяц как шесть лет.
Я лежу в очередной ангине.
Включено радио. Приемник стоит на верхней полке этажерки. Из-под него струится вниз кружевная салфетка. А из него доносится печальная, рвущая душу музыка. Время от времени музыка прерывается голосом Левитана.
Из всего сказанного я понимаю только слово “Сталин”. Но существенную разницу в интонациях, произносящих это имя, я, конечно, улавливаю. До сих пор это слово произносилось с другой интонацией — бодрой до взвинченности. А теперь — нет. Теперь — с готовой вырваться наружу слезой. Так иногда говорит мама, когда за что-нибудь обижается на отца.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу





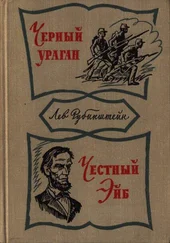
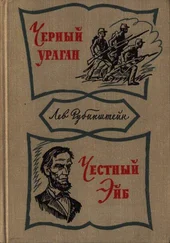



![Лев Рубинштейн - Что слышно [сборник]](/books/422824/lev-rubinshtejn-chto-slyshno-sbornik-thumb.webp)
