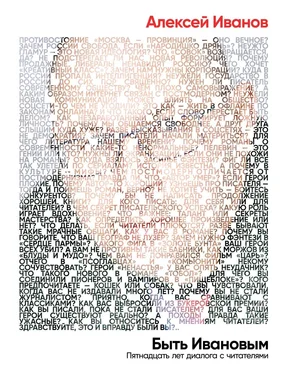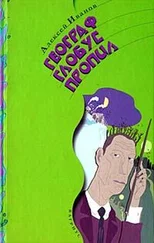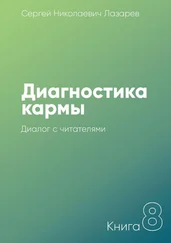В «Ермаке» мне всё-таки чего-то не хватило именно с киношной точки зрения. Некой монументализации, что ли. Пространство «съедает» героев, а они должны быть по крайней мере равновелики миру: они же демиурги.
Лично я считаю «пафос» фигуры Ермака не таким, какой показан в фильме. Но тут право авторов на свою трактовку. Я думаю, что значимость Ермака для Сибири не раскрыта — и не может быть раскрыта, ибо она выражается иначе, без Ермака. Ну, например, когда все говорят о Ермаке, но мы его не видим ни разу, тогда и рождается ощущение значимости (как в ужастиках настоящий ужас бывает лишь тогда, когда мы не видим чудище целиком и при свете). И суть значимости какого-либо героя воплощается в стратегиях поведения потомков (потомки ведут себя так же, как герой; придерживаются его системы ценностей), а те стратегии поведения Ермака, которые и стали сутью сибиряка, в фильме показаны на втором-третьем плане, а то и вовсе не показаны.
18.09.2018. Юрий
Как вы относитесь к нашей деревенской прозе? Какое место она занимает в истории вашего личного становления как писателя? И, если не секрет, кто у вас любимый автор этого жанра?
К деревенской прозе я отношусь с огромным уважением.
В моём личном становлении она не занимала никакого места, так как эти произведения я начал читать лет в 25. И читал далеко не всё. Например, у Василия Белова читал только одно «Привычное дело».
Термин «деревенская проза» я принимаю только с оговорками — как формальный. На самом деле эта проза «деревенская» лишь с точки зрения, ну, не знаю, Дмитрия Быкова, но ни в коем случае не сама по себе.
«Привычное дело», например, восходит к Лескову и русской «религиозной» прозе, к историям о «святых в миру» и «очарованных странниках».
Произведения Распутина — европейские экзистенциальные драмы, хотя их герои одеты в ватники и валенки. Тонущая в Лете Матёра, растворяющиеся в вечности бессмертные старухи и тоскующая жена дезертира — это больше от Камю, чем от Толстого.
Яростный Астафьев (мой любимый автор, в честь которого я назвал своего героя Осташей) — острейшая социальная критика, в апогее выходящая не только на солженицынский пафос, но и на лемовскую экологичность, и на европейский символизм, потому что, например, Царь-рыба — она родственница и Левиафана, и Моби Дика, и той рыбы, которую поймал Старик Хемингуэя, и «Челюстей» Бенчли, и даже немецкой субмарины в устье Ориноко, с которой в одиночку вёл войну моряк Мёрфи.
Ну и так далее.
Феномен деревенской прозы в нашей культуре осмыслен неверно, однобоко, по-московски, а его интертекстуальность проигнорирована. Социально-культурные причины этого явления определены по-идиотски: дескать, «деревенщики» звали Россию назад, из колхозов — в достолыпинскую общину. Не замечена даже явная единоприродность с «национальной» литературой СССР — с творчеством Искандера, Айтматова, Рытхэу, Айпина. Чушь, а не анализ, короче. Совок.
Феномен «деревенщиков» в нашей культуре осмыслен неверно, однобоко, по-московски. Интертекстуальность проигнорирована, причины вульгаризированы, а связь с «национальной» литературой СССР не замечена
28.10.2018. Дмитрий
Известно, что основой для книг Д. Мартина в том числе была Война Алой и Белой розы. Как вы думаете, какое время в истории России было бы интересно изложить как отечественную «Игру престолов»? И могло бы это быть, например, время Смуты? Битва за трон лжепретендентов, гражданская война, русско-польская война, русско-шведская война, разнообразие локаций (Москва, Польша, Сибирь, Швеция) и т. д. — это ли не многослойность и событийность для подобных книг и сериалов?
Абсолютно согласен с вами. То, о чём вы говорите, — здраво и с огромным художественным потенциалом. Может, когда-нибудь и будет осуществлено.
Российская история, в которой ничто не может начаться и закончиться, очень «сериальна». Эпоха Грозного, Смута, Раскол, становление Донского казачества, Петровские времена, турецкие и кавказские войны, захват Средней Азии, Гражданская война — всё это огромные информационные пространства для, так сказать, «сетевых» сериалов вроде «Игры престолов».
06.02.2019. Вадим
Как вы относитесь к творчеству Юрия Бондарева? Если вы знакомы с творчеством этого писателя, то какой роман произвёл на вас большее впечатление и почему?
У Юрия Бондарева я читал «Берег», «Выбор», «Игру» и «Горячий снег». Мне очень нравится язык и стиль Бондарева. При всей отформатированности соцреализмом Бондарев — сильный и правдивый писатель. «Выбор» я перечитывал раз пять. У меня в «Ненастье» есть даже след от «Выбора»: Бондарев не объясняет, как Илья Рамзин попал в плен, и я решил не объяснять, как спаслись Немец и Лихолетов.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу