По традиции, сложившейся при Симонове, в редакции царили нравы демократические, критика, не взирая на лица, воспринималась как должное. Помню, вскоре после моего прихода на летучке сильно потрепали статью самого Рюрикова. И все же что-то изменилось и здесь. Стало меньше энтузиазма, горячности, безоглядности, дерзости.
Многое уже делалось по инерции сложившегося в редакции стиля, так сказать, хорошо набитой руки, и это не могло не сказаться на газете. Внешне все как будто бы было неплохо, на общем фоне «Литературка» все еще выделялась интеллигентностью, высоким уровнем журналистской культуры, число ее подписчиков продолжало расти, но мы, люди, ее делавшие, ощущали — еще как следует не осознавая — тревожные признаки деградации. Газета уже не могла затеять дискуссию большого общественного масштаба и такой остроты, как о совместном или раздельном обучении в школе. Или выступить с материалом, подобным репликам Симонова против Бубеннова и Шолохова по вопросу о псевдонимах, за которым стояла проблема антисемитизма.
Раньше газета нередко опережала читателей, вела их за собой. Теперь по некоторым позициям читатели оказывались впереди. К тому же она перестала быть лидером в газетном мире. Другие газеты, пробужденные изменившимся, изменяющимся временем — например, «Комсомольская правда»,— стали наступать «Литературке» на пятки.
Свою роль в этом отставании сыграл тот сокрушительный удар по руководству газеты, который в хамовато-ернической манере (долгое время она почему-то выдавалась за народную — считалось, что таким образом режут правду-матку) нанес на Втором съезде писателей Шолохов. «И чем меньше будет в редакциях газет и журналов робких Рюриковых, тем больше будет в печати смелых, принципиальных и до зарезу нужных литературных статей», — заявил он.
Презрительно брошенное «робкий Рюриков» не означало, как может показаться нынче людям, не знающим тогдашней общественной и литературной обстановки, что Шолохов хотел видеть во главе «Литературки» по-настоящему смелого редактора, при котором газета станет мужественной защитницей суровой правды в литературе и выразителем начавшегося общественного пробуждения. Это был камуфляж, скрывавший групповые интересы, желание видеть во главе «Литературки» своего человека. И грозно прозвучавшее из уст Шолохова, имя которого было самым мощным способом воздействия на партийных бонз со Старой площади, обвинение — это было началом войны на уничтожение — толкало тех, кому оно было адресовано и кто прекрасно понимал его суть, конечно, не к смелости, а в противоположную сторону — к большей осмотрительности, к перестраховке. Еще и года не прошло после писательского съезда, как произошло то, чего так хотел и добивался Шолохов: Рюриков был снят и назначен новый главный редактор — Кочетов, который, надо полагать, соответствовал представлениям Шолохова о смелом, стоящем вне группировок, честном редакторе...
Тогда упорно говорили, что последним толчком для этого послужила история, связанная со все тем же выступлением Шолохова на съезде, оно было первым ходом в задуманной кадровой комбинации. В мае 1955 года Шолохову исполнилось пятьдесят лет. «Литературка» отметила эту дату с необыкновенным размахом и помпой: под шолоховские материалы был отдан полный разворот. «Гвоздем» разворота мы считали отзыв Алексея Толстого о последней книге «Тихого Дона», добытый в архиве Института мировой литературы имени Горького. Шутка сказать, один классик советской литературы пишет о другом.
Толстой высоко оценивал шолоховский роман: «Произведение Шолохова «Тихий Дон», 4-я часть, есть прежде всего произведение глубоко народное. Язык, образы, характеры, быт, эстетика, все это целиком от народа... Это выдвигает его роман в ряд первоклассных произведений русской литературы. Характеры Пантелея Прокофьевича и его внучонка Мишатки достойны отнесения к классическим образам. Это лучшие, наиболее удавшиеся лица в романе».
За это шолоховская партия в литературе уцепилась: как так, значит, Шолохову лучше всего удались не главные герои, а эпизодические персонажи? Не обесценивает ли это толстовские комплименты? И еще одно место отзыва было истолковано как скрытая мина, подложенная под «Тихий Дон». «Роман Шолохова,— писал Толстой,— это «Война и мир» в областном масштабе. Эго не умаляет его значения. Кстати сказать, кое-где чувствуется и прямая преемственность. Но эта преемственность органическая. Поскольку у Л. Толстого был шире кругозор, образование, знакомство с историей, постольку шире и могущественнее размах JI. Толстого». Эти слова об областном масштабе картин «Тихого Дона», об интеллектуальном превосходстве Льва Толстого были истолкованы Шолоховым или его окружением как оскорбление живого классика советской литературы, как злонамеренный выпад Рюрикова.
Читать дальше

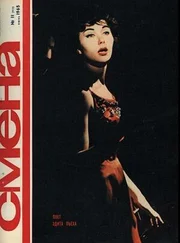
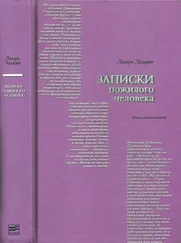
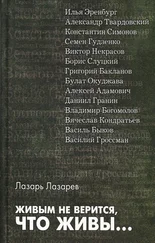

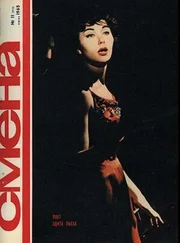
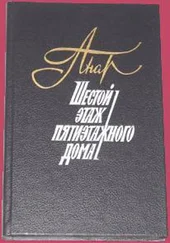
![Лазарь Лагин - Детская библиотека. Том 46 [Лазарь Иосифович Лагин]](/books/401001/lazar-lagin-detskaya-biblioteka-tom-46-lazar-io-thumb.webp)
