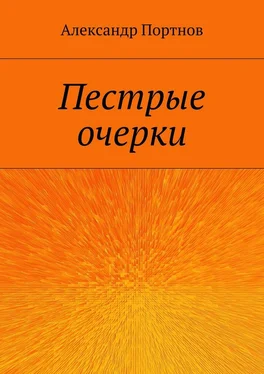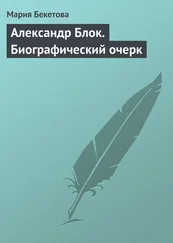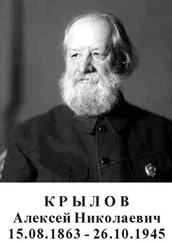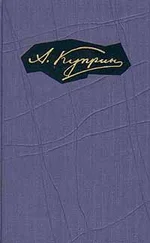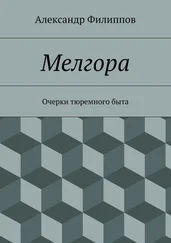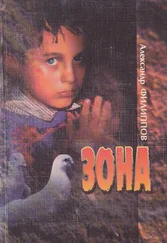Ежемесячным враньем!..
И в античные времена, и в средневековье авторы часто говорили о себе в третьем лице. Например, Гай Юлий Цезарь в автобиографической «Галлльской войне» (1 век до н.э.) пишет о себе так: «Тогда Цезарь выступил из лагеря и двинулся в землю гельветов». Этот же стиль сохраняется и в «Слове», более того, есть даже очень похожая строчка: «Тогда вступи Игорь князь в злат стремень и поеха по чисту полю».
Многие любители знатоки «Слова» приходили к выводу о том, что именно князь Игорь – автор поэмы. Они исходили из лингвистического анализа текста и ощущения возвышенного и национально-патриотического духа произведения. Доклад на эту тему сделал еще в начале 50-х годов советский исследователь Н.В.Шарлемань. Но его сообщение было встречено скептически, а забытый доклад пылился без дела у другого известного любителя «Слова» – филолога В.И.Стеллецкого.
Но он попал в руки писателя-патриота В.А.Чивилихина, который развил мысли Шарлеманя в блестящем исследовании – романе «Память». Проанализировав историческую обстановку, в которой создавалось «Слово», а также особенности его словарного состава, писатель пришел к выводу: князь Игорь – несомненный автор поэмы! Поэт И. М. Кобзев выступил со статьей «Автор „Слова“ – князь Игорь?» – и опять общественное литературоведение осталось глухо к этой мысли. Нет, не нужен автор «Слова» России… Все как бы смирились: ну, утерян, так утерян; гениальная поэма есть – и то хорошо! А кто написал – в конце концов, не так уж и важно!..
Хотелось бы спросить: имеет ли для нас значение, кто написал «Евгения Онегина» или «Войну и мир»?.. Или мы так сейчас забиты, что кроме проблемы своевременной выплаты зарплаты или пенсии нас уже ничто не интересует?..
Давайте обратимся к фактам. Что сообщает текст поэмы об авторе, что он знает, каков круг его общения, какие проблемы его интересуют? Оказывается, что ответы на эти вопросы рисуют человека очень высокого социального и культурного уровня. Автор на равных обращается к князьям, называя их «братие»: в те времена на это мог решиться только князь! Автор безошибочно называет более 40 княжеских имен из восьми поколений: такая историческая память на «генеалогическое древо» рюриковичей тоже необходима лишь князю! Автор проявляет редкую эрудицию в вопросах, касающихся оружия, доспехов, соколиной охоты; 22 раза повторяются в поэме слова «злато», «сребро», «кощей» (раб); 20 раз возникает образ сокола, дважды упоминается редкостный охотничий зверь пардус (гепард). Обширна территория, обозначенная названиями рек и городов; на тысячелетие уходит память автора в историю.
Очевидно, что тип ассоциаций, стиль, уровень мышления, кругозор, политическая направленность текста, «ключевые слова» – все свидетельствует в пользу человека государственного мышления, воина и руководителя, КНЯЗЯ. Хроникеры-летописцы писали в те времена совсем иначе: сложная символика, образные и «неинформативные» слова не подходили для четкого и лаконичного стиля летописей.
Автор сообщает такие детали, о которых может знать лишь участник битвы и пленник, которому удалось бежать. Но ведь с поля боя никто не вернулся, войско бесследно исчезло, о разгроме рассказали заезжие купцы через полгода после битвы! Ипатьевская летопись сообщает, что из русских сумели бежать лишь человек пятнадцать; пять тысяч попали в плен и были проданы в рабство, остальные погибли. В плен попали и все четыре князя – руководители злополучного похода. Но из плена бежал лишь князь Игорь. Любопытно, что, взывая о помощи из плена, он называет князей уже не «братие», а «господине»…
Историк А. М. Петров обратил внимание на то, что «паволоки и оксамиты», захваченные у половцев дружиной Игоря, – это китайские шелковые ткани, ценившиеся тогда дороже золота. Но об этой драгоценной добыче летописи молчат: значит, о китайских шелках знал лишь автор «Слова»! Выходит, что кроме Игоря, писать поэму просто некому!
Ан нет! Еще В. А. Чивилихин отмечал дикий разнобой во мнениях ученых, пытавшихся определить общественное положение автора «Слова». Историки, филологи и литературоведы, всяк на свой лад, «убедительно» доказывали, что авторами могли быть совершенно разные по своему уровню люди. На равных перечислялись «летописец», «грамотный поэт», «придворный певец», «член музыкального придворного коллектива», «дружинник», «воевода», «дружинный сказитель», «книжник», «боярин», «поп», «посол-дипломат», «видный боярин» и даже… «половецкий гений» и «представитель крестьянства, как передового класса»! А вот назвать автора князем – ни у кого из них язык не поворачивался!
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу