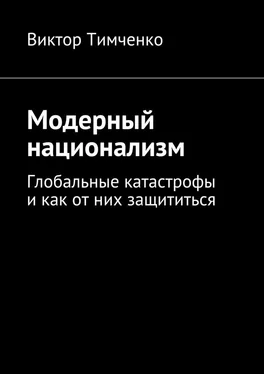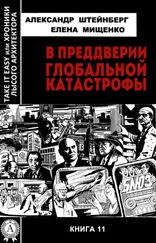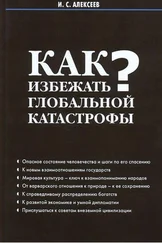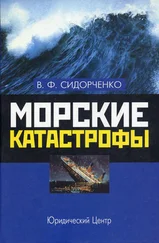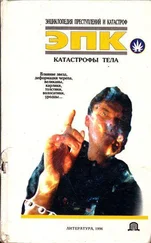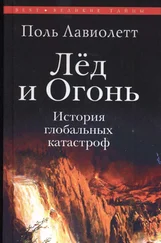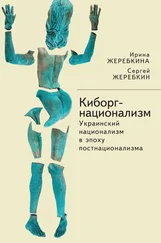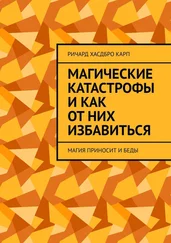Этому трудно что-то противопоставить.
Но десятки «нетипичных» примеров заставляют нас задуматься, не упрощаем ли мы ситуацию, не пытаемся ли сложную социокультурную и политическую проблему свести к простой чёрно-белой схеме.
Если язык является определяющим нациесозидающим элементом, то как быть, если одна нация говорит на нескольких языках? Мы уже приводили пример Швейцарии, где есть четыре государственных языка. В США существует немало устойчивых групп населения, говорящих на языке, отличном от официального английского, однако считающих себя американцами. Что делать с австрийцами, которые говорят по-немецки, но (после кратковременного пребывания в гитлеровском «рейхе») не хотят считать себя немцами? Не все говорящие по-английски – англичане. На арабском общаются во многих странах, хотя в каждой из них люди считают себя отдельной нацией. Португальцы и бразильцы говорят на португальском, но это две разные нации. В Лихтенштейне официальным языком является немецкий, в быту местные жители говорят на алеманском диалекте немецкого, но попробуйте назвать местных жителей немцами. Китай говорит на двух «диалектах» – пекинском и кантонском, которые лингвистически удалены друг от друга больше, чем английский от немецкого. В Пакистане официальным языком урду пользуются лишь чуть более семи процентов населения, а «местным диалектом», «провинциальным языком» панджаби – почти половина населения. Сам же урду сродни хинди – государственному языку соседней Индии. Хинди, в свою очередь, понимают в Непале и Бангладеш. В Центральной и Южной Америке огромные территории говорят на испанском, но Куба, Венесуэла, Коста-Рика и Боливия никогда не признают, что они – одна нация, не говоря уже о каком-то родстве с европейскими испанцами. Некоторые французские диалекты ближе к итальянским говорам, чем к родному литературному французскому. Галисийский язык, на котором говорят в северо-западной Испании, и португальский, хотя и имеют общее происхождение, сейчас считаются разными языками. Но галисийцы – испанцы, а не португальцы. Разбросанные по всему миру евреи конца XIX века, задумав возродить Израиль, вообще не имели общего языка. Собравшись в «земле обетованной», все изучали новый для себя язык, а сам когда-то мёртвый иврит был возрождён и адаптирован как разговорная речь и письменный язык.
О каком же стержне, вокруг которого консолидируется нация, мы говорим? Что же такое язык, а что такое только диалект?
Во Франции временем рождения нации считается Великая французская революция. В 1789 году революционерами была принята «Декларация прав человека и гражданина», провозглашавшая, что «источником суверенной власти является нация; никакие учреждения, ни одно лицо не могут обладать властью, которая прямо не исходит от нации». Эта декларация была написана на языке, который не понимала основная масса населения страны. Если на севере Луары, за исключением Бретани и Фландрии, большинство могло её прочесть, то на юге её не понимал почти никто. Когда Декларация была опубликована, лишь незначительная часть жителей территории, которую мы называем Францией, считала себя французами. Тогда не было ещё ни общего языка, ни нации как таковой, но её именем уже провозглашался суверенитет. В чём дело?
А дело в том, что процессы рождения нации и выделения речи из множества диалектов, признание какого-то диалекта языком, к тому же официальным, главным языком страны – процесс не одного дня. Как вокруг рождения нации, так и вокруг рождения государственного языка всегда велись и по сей день ведутся сложные споры – в которых лингвисты играют лишь незначительную, заштатную роль. В вопросе о первичности нации или языка можно быть уверенным лишь в одном: рождение нации и рождение общего для этой нации языка происходит одновременно, параллельно – здесь нет ни первых, ни последних.
Выбор официального языка – всегда политическое решение. Во Франции после провозглашения высокопарной Декларации, о которой мы упомянули, права на свой язык были лишены, например, бретонцы – они должны были учиться разговаривать на северофранцузском диалекте, возведённом в ранг официального языка. А как иначе можно было создать общий язык? Есть свидетельства современников, которые утверждали, что в те времена один «француз» часто не понимал другого «француза», жившего «на расстоянии семи-восьми лье» – по-современному, за полсотни километров.
С другой стороны – где предел понятности языка? Какой объём понимания является истинным пониманием? Где в поле понимания проходит граница между пониманием и непониманием? Тем более что датчане, норвежцы и шведы – отдельные языки! – понимают друг друга, а некоторые немцы (баварцы, платтдойче…), если будут говорить исключительно на диалектах, никогда не поймут друг друга.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу