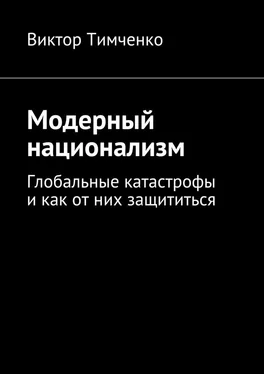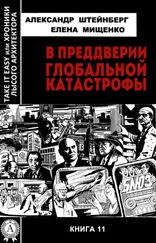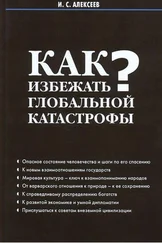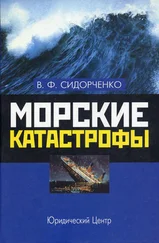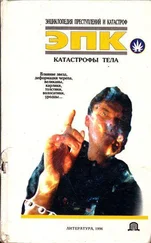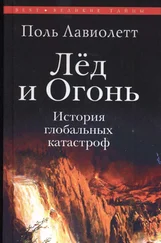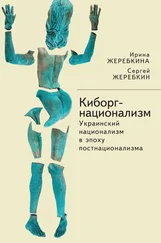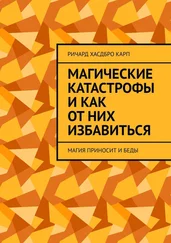Германия – не исключение. Такие «гастарбайтеры», переселенцы, бежавшие от нищеты в своей собственной стране, впервые появились не в ХХ веке и не в Германии. Так раньше в поисках лучшей жизни переселялись люди в Аргентину, США, Канаду, Австралию и Новую Зеландию; и лишь совсем незначительная часть их – полные неудачники – возвращалась обратно. Подавляющее большинство оставалось там навсегда, постепенно становясь аргентинцами, американцами и канадцами.
Сейчас демографическая ситуация во всей Европе, во многих так называемых индустриальных странах, похожа на послевоенную. Народонаселение уменьшается, работать, производить материальные и культурные блага становится некому. Закрываются школы, увольняются учителя – учить некого. Предприятия страдают от недостатка тех, кто хотел бы овладеть той или иной профессией. Для того чтобы поддерживать жизненный уровень, к которому люди привыкли, нужны дополнительные рабочие руки. Снижение производства в развитых странах больно бьёт не только по собственному населению, но и по далёкой Африке: бедные страны могут выделять меньше денег на помощь ещё более бедным.
Старые люди не просто не могут работать на физически тяжёлой работе. Старение населения (и это доказано исследованиями) имеет отрицательную технологическую и культурную динамику. Старики консервативны, они не склонны к реформам, новшествам. Ждать от старого населения технологических прорывов, вспышек гения, криков «эврика», революций не стоит. И если в стране нет достаточного количества сырья, которое можно выгодно продавать на мировых рынках, то какие ещё ресурсы, кроме человеческих мозгов, им остаются для успешного развития? А нация, которая не может предложить миру эксклюзивные технологические идеи, никогда не станет экономически ведущей. (За счёт нефти и газа можно достаточно долго и неплохо жить – есть опыт арабских эмиратов – но кто может назвать эти страны экономически ведущими?).
Старение населения, жизнь до 80, 90 и 100 лет тормозит развитие нации, требуя дополнительных средств не только на пенсионное, но и на медицинское обеспечение. В старой Европе уже давно не хватает сиделок по уходу за немощными стариками. Дальше будет хуже. Роскошь ухода смогут себе позволить за счёт пенсии далеко не все, а детей у среднестатистических европейцев, которые финансировали бы старых и больных родителей, просто не будет.
Смягчением этой проблемы (при низкой рождаемости) может стать иммиграция: бедные люди из бедных стран могут улучшить своё положение тем, что они приедут жить и работать в (сегодня ещё) более богатые страны, которые будут им благодарны за этот приезд, – так когда-то немцы с цветами встречали поезда из Турции и Югославии. Приехав, они вольются в ряды рабочих и служащих, откроют собственные мастерские и пекарни, тем самым поднимут валовой продукт и уровень жизни как всего населения убогой на человеческие ресурсы страны, так и собственный. Такая миграция «сиделок» уже давно существует – в Германию едут врачи и медсёстры из Румынии и Словакии, во Францию – медперсонал из Болгарии и Венгрии, в Испанию и Португалию – из Украины, в Италию – из Румынии и Молдовы.
Бегство от голода – тоже не новое явление в истории. Во время Великого ирландского голодомора (по-ирландски: An Gorta Mór ) в середине XIX века умерло около миллиона человек, два миллиона эмигрировали в США, Канаду и Австралию. (Во время украинского голодомора в 30-е годы прошлого века границы Советского Союза были накрепко закрыты – тогда Украина потеряла около 6 миллионов человек).
Мелкий вопрос: что делать тем бедным странам, из которых в Европу уехали последние кормильцы, – старая Европа обходит, просто его не ставит. Исторически недалёк тот час, когда неголодные, но и небогатые нации, которые людей теряют, будут делать всё возможное, чтобы такого оттока не допустить. Ранее войны велись за рабов, затем – за золото и нефть, позже – за рынки сбыта, потом – за питьевую воду. Новая подковёрная борьба уже началась, и скоро она станет открытой – война за человеческие ресурсы.
Но пока границы и социальные системы многих стран для мигрантов открыты. Причин миграции немало: это и войны (Афганистан, Ирак, Палестина, Сирия…), и голод, о котором мы упомянули, и воссоединения семей, и просто экономическая миграция: рыба ищет, где глубже, а человек – где лучше. Значительно более прозрачные, чем раньше, границы превращают мир в систему сообщающихся сосудов, в которых там, где «жидкости» много, она перетекает туда, где её мало.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу