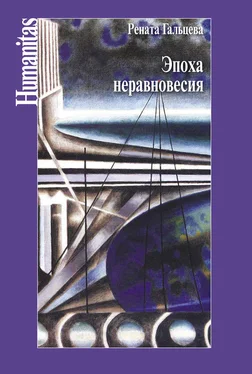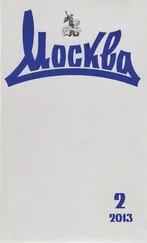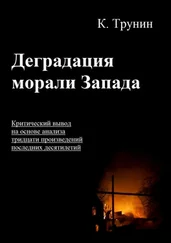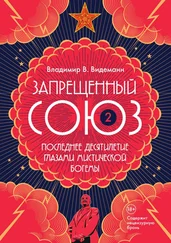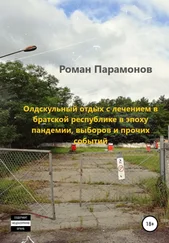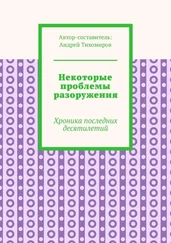Однако наследники заветов Соловьёва оказались чужды философскому экстремизму в оценках западной философии. С. Франк, С. Булгаков, Н. Бердяев, Н. Лосский и его единомышленники, представлявшие золотую ветвь русской мысли, с респектом и признательностью относились к своим европейским учителям, исправляя неприемлемые для отечественной философии уклоны мышления в чистую гносеологию. Как раз в сердце Западной Европы, на гостеприимной чужбине русские мыслители, осмысливая трагедию России, раздумывают над драматическими путями европейского духа, над «трагедией философии» (так называется работа С. Булгакова, написанная в эмиграции), они трудятся над созданием «положительного учения», философского синтеза «отвлеченных начал», синтеза разума и веры, онтологической первосущности и человеческой экзистенции, продолжая дело Вл. Соловьёва и Шеллинга. И вот в то время, когда эпоха философской классики на Западе подошла к концу и ее великое, но уже растрескавшееся здание раскалывалось на множество мелких фрагментов, русская мысль в изгнании включается в мировую эстафету и предлагает свой и вместе с тем верный классическим традициям ответ на метафизические запросы современного человечества – экзистенциальную метафизику [19] См. мой текст в кн.: Культурное наследие российской эмиграции, 1917–1940: В 2 кн. М., 1994. Кн.1: Раздел «Философия и богословие». С. 243–247.
.
А что же было у них на родине в это время? Как складывались отношения с текущей европейской мыслью?
В России при советском строе господствовал Маркс, царила атмосфера натужных панегириков ему. Однако постепенно, по мере расслабления режима, под трескающейся плитой марксизма стали пробивать себе русла течения «буржуазной философии» – от фрейдизма до структурализма, включая логический позитивизм, философию лингвистического анализа и т. п., – всего того, что в виде модных волн накатывало на интеллектуальный рынок Запада. На все это находились любители из числа тайных «ревизионистов», которые выражали свои запрещенные пристрастия на «эзоповом языке» критических разносов. Точно так же и сегодня находятся любители на гораздо более интеллектуально сомнительную продукцию Запада – вроде постмодернистского деконструкционизма, – но нынче, на свободной от марксистского диктата интеллектуальной сцене, слово их звучит громко и беспрепятственно. И в отличие от рецепции европейской философии предыдущими поколениями русских мыслителей, восприятие сегодняшних ее знатоков – это восприятие в основном безоглядных ее приверженцев и популяризаторов.
В отношении 70-летнего советского этапа нашей истории нужно заметить, что труднее пробивало себе дорогу в Россию, несмотря на его мощность, послевоенное течение экзистенциализма, поскольку оно представляло собой не разоблачительное, как фрейдизм, и не формально-позитивистское, как вышеупомянутые школы, а гуманитарно-духовное и в каком-то смысле богоискательское умонастроение. Еще труднее в 70-х годах было заявить о себе в России экзистенциалистским потомкам и вместе с тем «детям Солженицына» – французским «новым философам» [20] Ныне оказавшиеся враждебными критиками уже новой России.
. На подлинно подпольное существование в течение десятилетий было обречено все христиански ориентированное философствование на Западе – неотомизм и религиозный персонализм, передать неискаженный голос которых, вернее, хотя бы намекнуть на истинное содержание их речи, можно было только пользуясь, по Гегелю, «превращенными формами», например, менее доступным для публичной критики энциклопедическим жанром (ср. IV и V тома «Философской энциклопедии», издания 1967 и 1970 гг.).
К столетию со дня смерти Владимира Соловьёва [21] Вопросы философии. М., 2000. № 11.
Под таким названием на исходе 1999 г. проходили в ИНИОН РАН чтения, посвященные великому русскому философу. Их организаторами были также Фонд развития музыкальной культуры им. М. В. Юдиной и Общество им. Владимира Соловьёва.
То, что столетие со дня смерти Соловьёва соседствует с 200-летней годовщиной Пушкина и совпадает с 2000-летием христианства, не может не производить впечатления некой провиденциальности. Находясь у истоков золотого века русской философской мысли, Соловьёв занимает такое же центральное, солнечное положение в ней, какое Пушкин, стоящий у истоков «золотого века» русской литературы, занимает в этой литературе. Мы должны также признать их духовную конгениальность, за которой стоят многие столетия христианского воспитания души. С. Л. Франк сказал о Пушкине, что ему были чужды какие-либо болезненные уклонения. Но о Соловьёве можно сказать нечто похожее, – если, конечно, учесть, что в отличие от великого поэта он жил не в до -потопное, а в самое что ни на есть пред- потопное время, на рубеже веков и пугающего наплыва утопий. Утопические эксцессы Соловьёва нельзя назвать «болезненными», упадочными, это были порывы романтического нетерпения, так сказать, уклонения ввысь; учитывая всю «чреватость» как такового утопизма и таящуюся в нем амбивалентность, надо признать, что упования философа были чужды всякому разрушительству и декадансу.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу