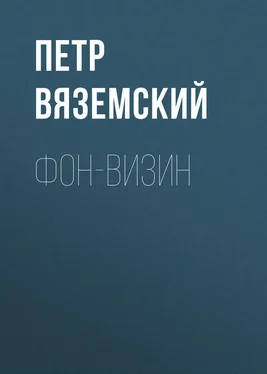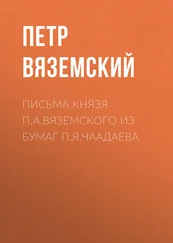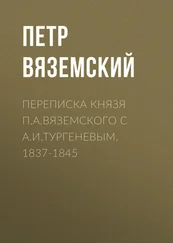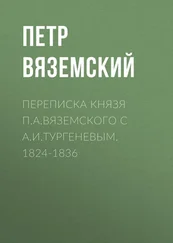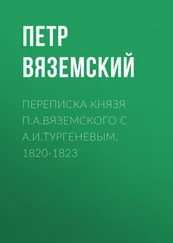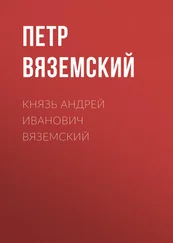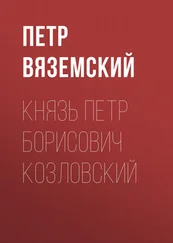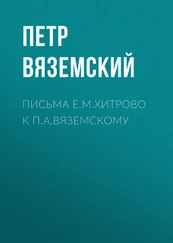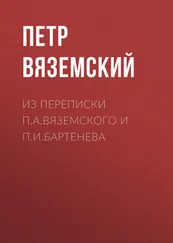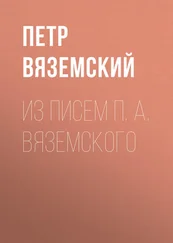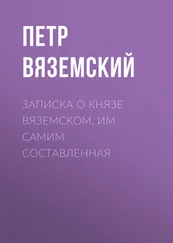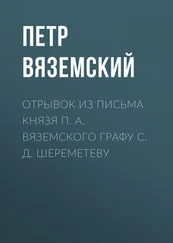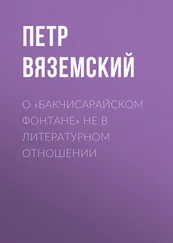Отец автора нашего, Иван Андреевич Фон-Визин, служил в Ревизион-коллегии членом в чине коллежского советника; уволен был статским советником; жил в Москве, в собственном доме близ Московского университета. Но в этом ли доме родился творец Недоросля, о том мы узнать не могли. Для дополнения скажем, что в летописях литературы нашей известно имя и другого сына его, Павла Ивановича, оставившего по себе некоторые стихотворения и переводы, напечатанные в ежемесячном сочинении Доброе намерение, изданном в Москве 1764 года. Одна из сестер автора нашего, по замужеству своему Аргамакова, упражнялась также в литературных занятиях в перевела несколько повестей Мармонтеля. Сын ее, бывший после Преображенского полка полковником, товарищ и друг Марина, был также поэтом в кругу однополчан и приятелей. Фон-Визин сохранил нам в Исповеди своей прекрасные воспоминания о нравственности родителей своих, и в особенности об отце, коего характер являет черты редкой твердости и великодушия. Замечательно, что в старину, при недостатке знания в иностранных языках, люди, одаренные умом любопытствующим, мог ли почерпать некоторую образованность в современных русских переводах, которые тогда были гораздо разнообразнее и удовлетворительнее, нежели в ваше время. Ныне, без помощи иностранного языка, почти читать у нас нечего: переводчиков нет, или труды их обращены на книги, или, лучше сказать, заглавия книг в чести у книгопродавцев, которые часто не питают, а отравляют вкус читающей публики; исключения редки. Поверьте, например, итоги переводов, вышедших от семидесятых годов до нашего столетия, с итогами нашего тридцатилетия, и вы убедитесь, что наша литература переводная упала против прежнего. Тогда все, или почти все, замечательные творения древности и совершенной эпохи имели у нас переводчиков; ныне знаменитейшие писатели нашего времени знакомы нам по одним журнальным перекличкам. При тогдашних пособиях и не удивительно, что отец Фон-Визина, хотя и лишенный выгод образованного воспитания, любил чтение исторических и нравоучительных сочинений и мог удовольствовать свои наклонности. Старые книги наши уже не в ходу: с одной стороны, их нет в обращении книжной торговли, с другой, обветшалый язык их, тяжелый слог пугают новых читателей: таким образом провинциалы губернские и столичные, требующие пищи умственной, должны довольствоваться малосочною и скороспелою пищею журналов и альманахов.
Год рождения автора нашего не был доныне достоверно определен. В Исповеди не означает он эпохи рождения своего, и в Опыте исторического словаря о Российских писателях, изданном Новиковым, при жизни Фон-Визина о том умолчено. По биографическим сведениям о нем, собранным преосвященным Евгением в журнале Друг просвещения и в Опыте краткой истории русской литературы, Греча, показано, что он родился 1745 года; но по другим указаниям и соображениям можно предполагать утвердительнее, что он родился в 1744 году. Автор ваш, говоря о детстве своем, показывает, что оно было означено резкими чертами характера пылкого и решительного. Авторские склонности обнаружились в малолетстве его раннею чувствительностию, раздражительным воображением и жадностью, с которою вслушивался он в рассказы, пробуждавшие его ребяческое внимание. Тогдашнее воспитание, при недостатках своих, имело и свойственные ему выгоды: ребенок оставался долее на русских руках, долее окружен был русскою атмосферою, в которой знакомился ранее и более их языком и обычаями русскими. Европейское воспитание, которое уже в возмужалом возрасте довершало воспитание домашнее, исправляло предрассудки, просвещало ум, не искореняло впечатлений первоначальных, которые были преимущественно отечественные. Укажем на одно свидетельство: большая часть переписки государственных людей царствования Екатерины велась на русском языке, не смотря на господство языка французского и нравов иноплеменных. После видим мы совершенно противное: первые звуки, первые понятия, кои передавали детству другого поколения, были исключительно иностранные, потому что ребенок с груди кормилицы русской обыкновенно вверяем был рукам чужеземцев. Уже только позднее в летах юношества, а часто и в возрасте, уже перезрелом для исправления погрешностей вкоренившихся, русский гражданин, по собственному обратному влечению и как будто по уязвлению пробудившейся совести, обращался к изучению отечественного. Более домоседства в жизни родителей, более приверженности к исправлению частных обязанностей и соблюдению обрядов русского православия, может быть, менее суетности, но в семейственном кругу более живого участия в делах общественных, и между тем более независимости в нравах, способствовали тогда к некоторому практическому гражданскому воспитанию: оно имело свои недостатки и весьма важные; но, как замечено выше, имело в себе что-то положительное, действовавшее в народном смысле. Ныне воспитание наше слишком отвлечено и, пущенное в рост, ни на чем не упирается в коренном основании. Например, мы видим, что старик отец Фон-Визин заставлял сына читать у крестов во время всенощных бдений, которые часто отправлялись у них дома; позднее детей другого поколения заставляли прежде всего вытвердить наизусть
Читать дальше