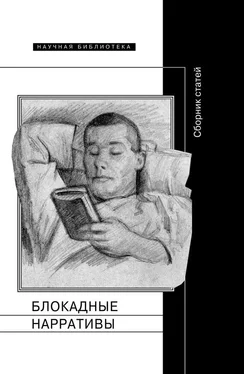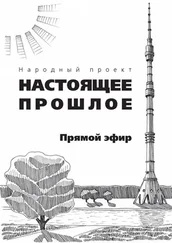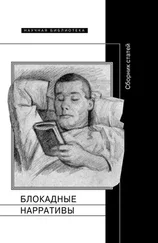Блокадная тема прошла последовательную трансформацию. Она родилась на отказе от довоенных героических конвенций, затем погрузилась в своеобразный «лирический натурализм», оксюморонно сочетавший в себе установку на искренность и субъективность с предельно натуралистическим изображением опыта. Когда мобилизационный потенциал литературы более не требовался, блокадная тема покрылась патиной мелодраматической беллетризации в романах Веры Кетлинской «В осаде», Николая Чуковского «Балтийское небо», чтобы полностью смолкнуть на годы. После смерти Сталина началась вторичная лиризация и историзация блокадной темы, вызванная возвратом к опыту и памяти. Процесс этот завершится уже в пост-оттепельную эпоху эпической беллетризацией в «Блокаде» Александра Чаковского, реакцией на которую станет поворот к мемориализации и документализации в «Блокадной книге» Адамовича и Гранина. Наконец, в постсоветскую эпоху в публичное поле входят «Записки блокадного человека» Лидии Гинзбург, а позже «Запретный дневник» Берггольц и множество дневников ленинградцев, где опыту блокады возвращается экзистенциальное измерение, которого в советское время он последовательно был лишен. Этот возврат стал возможен только через разблокирование опыта блокады.
В том самом 1969 году, когда вышла многотомная «Блокада» Чаковского, ставшая монументом историзации блокадного опыта, Александр Твардовский завершил свою последнюю поэму «По праву памяти», запрещенную тогда к публикации. Речь в ней шла о связи опыта и памяти: «Опыт – наш почтенный лекарь, / Подчас причудливо крутой» – единственное, что в состоянии спасти общество от повторения сталинизма. Те же, кто пытается этого не допустить, разрушают «живую память»: «Забыть, забыть велят безмолвно, / Хотят в забвенье утопить / Живую быль. И чтобы волны / Над ней сомкнулись. Быль – забыть!» Образ сомкнувшихся волн не вполне точен: забвение есть активный процесс производства «полезного прошлого» – Истории, в которой умирает Опыт, а с ним – и боль.
Татьяна Воронина
По-советски о блокаде: соцреализм и формирование исторической памяти о ленинградской катастрофе
Большинство опубликованных в СССР произведений о блокаде Ленинграда похожи друг на друга, что может показаться странным, если учесть, что они рассказывают об историческом событии, весьма протяженном во времени и охватывающем разные аспекты той катастрофы, что посетила крупный город. Эта схожесть характерна для литературных текстов, исторических сочинений, кино – словом, для всех направлений индустрии исторической памяти. Предположу, что унифицированное описание блокады было связано не только с внешним давлением, оказываемым на писателей, историков и режиссеров со стороны власти, заинтересованной в получении вполне конкретных выгодных для себя интерпретаций, но и с внутренней логикой нарратива, возникшей в результате доминирования соцреализма в советской культуре.
Размышляя о взаимодействии литературы и исторической памяти, Алейда Ассман использовала понятие «культурного текста» [36] Assman A . Was sind kulturelle Texte? // Literaturkanon, Medienereignis, kultureller Text: Formen interkultureller Kommunikation und Übersetzung / Hrsg. Andreas Poltermann. Berlin, 1995. S. 237.
: по ее мнению, литература передает концепты культурной, национальной и религиозной идентичности в той же мере, что и коллективные ценности и нормы. Другими словами, важный для общества литературный текст – это медиум или проводник культурной памяти. Понятие «культурного текста» весьма созвучно идеям Юрия Лотмана, также видевшего в литературе ключ к пониманию традиции. Он писал:
Письменность – форма памяти. Подобно тому как индивидуальное сознание обладает своими механизмами памяти, коллективное сознание, обнаруживая потребность фиксировать нечто общее для всего коллектива, создает механизмы коллективной памяти [37] Лотман Ю. М. Несколько мыслей о типологии культур // Он же. Языки культуры. М., 1987. С. 3–11.
.
Важным отличием «культурного текста» от обычного литературного произведения является значение, приобретаемое этим текстом в обществе. «Культурный текст» всегда ориентирован на широкую группу читателей и всегда тесно связан с идентичностью, разделяемой этой группой [38] Assman A . Was sind kulturelle Texte? S. 234.
. Это своего рода «место памяти», в терминологии Пьера Нора, создающее вокруг себя неутихающий общественный интерес [39] Подробно о применении концепции «места памяти» к литературным текстам см.: Lachmann R. Mnemonic and Intertextual Aspects of Literature // Cultural Memory Studies: An International and Interdisciplinary Handbook / Ed. by Astrid Erll, Ansgar Nünning. Berlin; New York, 2008. P. 301.
. Предположу, что для советской культуры такими «культурными текстами» были романы соцреализма, оказавшие наиболее заметное влияние на советскую культуру послевоенного времени и во многом задавшие модус восприятия реальности (в том числе исторической).
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу