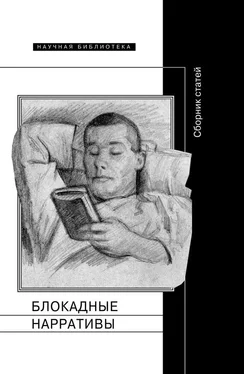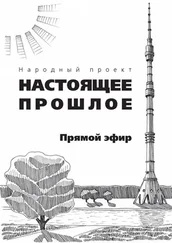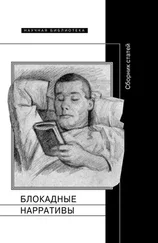Миллионы людей сражаются на фронте. Миллионы работают в тылу. Уральский сталевар или звеньевая казахского колхоза могут никогда не видеть немцев, не слышать артиллерийских разрывов, – и все-таки они знают правду о войне… У сыновей и дочерей воюющего народа, на фронте и в тылу, – общий опыт, общие мысли, дела, стремления. Вот почему и правда о войне у нас есть только одна – одинаковая для тех, кто был и кто не был в бою. «Правдой сущей, правдой прямо в сердце бьющей» полны сталинские приказы и сводки Советского Информбюро, вся наша агитация и пропаганда —
так писала Евгения Книпович в статье с характерным названием «“Красивая” неправда о войне», где резко критиковались рассказы К. Паустовского, В. Каверина, Л. Кассиля, Б. Лавренева [29] Книпович Е. «Красивая» неправда о войне // Знамя. 1944. № 9/10. С. 212.
. Пропаганда прямо называется здесь «правдой»: ее прямая задача – создание невозможного в принципе «общего опыта, общих мыслей… для тех, кто был и кто не был в бою».
В конце войны обнаружились две противоположные тенденции: одна – мобилизационная инерция военной литературы; другая – возврат к прежним героическим конвенциям. Так, все журналы дружно выступили «против попыток некоторых писателей приукрасить, романтизировать тяжелые будни войны». «Октябрь» напечатал выступление Берггольц на февральском (1944) Пленуме ССП, в котором она осуждала ложно-романтический пафос некоторых рассказов Константина Паустовского (в частности, его «Ленинградской симфонии») [30] Октябрь. 1944. № 1/2.
. «“Красивая” неправда о войне» стала объектом множества критических статей. Рецензируя книгу В. Беляева «Ленинградские ночи», Александр Прокофьев критиковал ее за «халтуру, тем более недопустимую, что автор связал ее с темами великого и прекрасного города» [31] Звезда. 1944. № 4. С. 119.
; Белла Брайнина упрекала Валентина Катаева в идилличности изображения «суровой военной жизни народа» [32] Брайнина Б. Хрустальная бухта // Знамя. 1944. № 4.
; А. Мацкин требовал покончить с «литературным “кондитерством”» и «мастерами пустяков» [33] Мацкин А. Об украшательстве и украшателях // Знамя. 1943. № 11/12. С. 287.
; о литературщине, благодушии и «опошлении действительности» писал М. Гельфанд [34] Гельфанд М. Литературные игры Льва Кассиля // Октябрь. 1943. № 11/12.
. Это была санкционированная властью «борьба с бесконфликтностью и лакировкой», которая всякий раз имела целью ввести население в состояние аффекта. Все это уходило в прошлое, примером чему – судьба «ленинградской темы».
Она оказалась аккумулятором спора. В апреле 1945 года в Ленинградском отделении ССП прошла дискуссия о «ленинградской теме». В ходе этой дискуссии и выявились разнонаправленные векторы в определении верной взвеси «правды о войне». С изменением ситуации меняются и требования к литературе, а с тем – и порог «правды». С одной стороны, продолжают действовать принципы военной литературы; с другой – основные для нее конвенции террористического натурализма заменяются на «мирные» практики контроля и нормализации. В литературе это означало борьбу с «натурализмом» и переход от изображения страданий и ужасов войны к ее эпизации и героизации. Практики стирания опыта сменяются практиками замены его историей/эпосом.
Симптоматично выступление в дискуссии о ленинградской теме Павла Громова, сокрушавшегося о том, что «авторы стараются поразить внимание читателя описанием картин голода и лишений, выпавших на долю ленинградцев», дают «эффектную картину всяческих натуралистически выписанных деталей ленинградского быта. Подлинное искусство всегда чуждалось натурализма». Поэтому нужно «не гоняться за бытовым правдоподобием», а «давать масштабную, обобщающую картину целого», поскольку, утверждал он, читателя и зрителя «интересуют не частности, какими бы эффектными они ни казались, а патетика высоких чувств ленинградца, страсть советского воина, мужество советского человека». Не поняла этого, по мнению Громова, Вера Инбер, которая в своих «Ленинградских дневниках» живописала ужасы блокадной жизни:
К чему эти клинические описания, – риторически вопрошал Громов. – Кому и что они дают? Дело вовсе не в том, чтобы художнику надо было что-то утаивать, – нет. Пиши о чем угодно, но надо, чтобы было обобщение, осмысление событий, а не простое нагромождение ужасающих деталей… В книге нет воздуха эпохи, неизвестно, где, когда, с какими людьми происходят описываемые события. В дневниках Инбер нет истории. Время приходит сюда мелочами быта, «страшными» деталями, а не историческими особенностями психологии советского человека, воспитанного новым социальным строем.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу