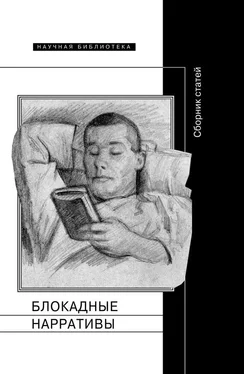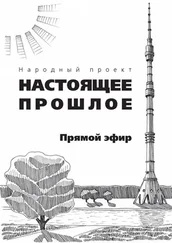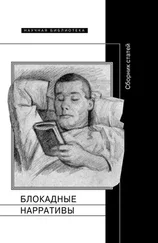Еще один подмеченный Синявским элемент заключался в целесообразности исторических процессов и времени. Все исторические произведения, по его мнению, так или иначе были или о том, как приближалось время коммунизма, или о тех, кто его приближал: «И в самых отдаленных веках вдумчивый писатель находит такие явления, которые считаются прогрессивными, потому что они способствовали, в конечном счете, нашим сегодняшним победам» [46] Там же.
. Наконец, наиболее важная особенность соцреализма, по мнению Синявского, проявилась в особом характере положительного героя: «Положительный герой – это не просто хороший человек, это герой, озаренный светом самого идеального идеала, образец, достойный всяческого подражания, “человеко-гора, с вершины которой видно будущее”» [47] Там же. С. 60.
. Таким образом, Синявский обозначал «общие места» соцреалистических произведений и объяснял их теологичностью советской литературы в целом.
Еще дальше в изучении структурных особенностей соцреализма пошла Катарина Кларк. Ее интересовали соцреалистические романы, лауреаты Сталинских премий, признанные в советском обществе как образцы художественного текста. Проанализировав их структуру советских соцреалистических романов, она увидела в ней не просто повторяющиеся из романа в роман фабулу и сюжетные ходы ( master plot ), но и восходящие к архаическим ритуалам основания советской культуры, закрепленные в соцреалистических текстах [48] Clark K . Soviet Novel: History as Ritual. Chicago: Chicago University Press, 1981. Далее цитирую по русскому изданию: Кларк К . Советский роман: История как ритуал. Екатеринбург, 2002.
. По ее мнению, противостояние «стихийного» и «сознательного» входило в ряд «ключевых бинарных оппозиций», сравнимых «с оппозицией реального/идеального в схоластике или субъекта/объекта в классической немецкой философии» [49] Там же. С. 27.
. При этом «сознательное» означало «контролируемую, подчиненную дисциплине <���…> политическую деятельность», а «стихийность» – активность, «не руководимую политически, спорадическую, некоординированную, даже анархическую <���…>, соотносимую скорее с широкими неперсонализированными историческими силами, чем с сознательными действиями» [50] Там же. С. 23.
.
Конфликт сознательного и стихийного, как правило, оказывался в центре любого соцреалистического произведения. Так «стихийное» могли олицетворять бедствия, необузданная природа, внутренние и внешние враги. «Сознательным» в романах соцреализма была партия в лице партячейки или отдельных коммунистов, старшего наставника, коллектива. Главный герой находился в центре противостояния, но в конце концов выбирал сторону «сознательного», что гарантировало роману неизменный счастливый конец. Кларк поясняла:
…сущность соцреализма – это его структурная основа ( master plot ), которая представляет историю как ритуал. Каждый роман – это аллегория, организованная вокруг сущности марксистско-ленинской версии исторического прогресса, которая закодирована в драму о протагонисте или «положительном герое» и его взаимоотношениях с большой семьей Советского государства [51] Clark K . Soviet Novel. P. 265.
.
Характерно, что эта драма могла разворачиваться не только в художественном романе. Ритуальный характер повторяемых из текста в текст соцреалистических элементов (всегда положительного героя, противостоящего врагу, общественной задачи, старшего наставника, счастливого конца и т. д.) стал важной спецификой повествования о советском прошлом, настоящем и будущем в целом. Master plot соцреалистического романа легко применялся к любому событию, он легитимировал текст и давал ему право на существование в советском публичном пространстве. В то же время такая нарративная схема значительно ограничивала возможности появления новых смыслов и интерпретаций. За этим следили не только ревнители жанра, но и специальная система контроля за писателями [52] Устройству советского литературного мира и системе контроля за писателями в СССР посвящено исследование Геллер Л., Боден А . Институциональный комплекс соцреализма // Соцреалистический канон / Под ред. Х. Гюнтер и Е. Добренко. СПб., 2000. С. 289–319.
. Поэтому понятие социалистического реализма выходило за рамки творческого метода, о чем неоднократно указывалось в дискуссиях о нем [53] Соцреалистический канон. СПб., 2000; Socialist Realism without Shores / Ed. by Th. Lahusen, E. Dobrenko. Durham; London, 1997.
.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу