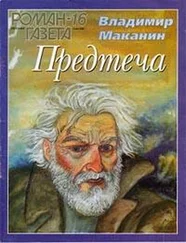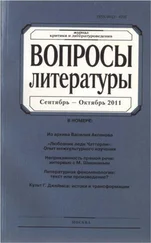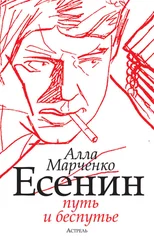Если взглянуть под предложенным академиком Лихачевым углом зрения на современную литературу, нетрудно заметить, что с начала 70-х годов наиболее активно изучаются две зоны национальной характерности. С одной стороны, типы, возникшие на основе многовекового развития и воплощающие лучшие черты народа. С другой — характеры, только-только появившиеся на национальном горизонте, и это, как правило, характеры отрицательные, испорченные цивилизацией. Причем пристрастный интерес к первым либо вовсе исключает, либо деформирует интерес ко вторым. Книги писателей, избравших в качестве объекта изучения и изображения столь разные характеры и типы, образовали что-то вроде двух полярных течений в нашей литературе. И если литературный «Гольфстрим» формируется стараниями тех, кто специализируется на исследовании глубинных слоев национальной психики, то «холод и льды», также существенным образом влияющие на климат «второй действительности», приносят книги охотников за новью.
В. Маканин и тут — исключение из правила. В его творчестве теплое и холодное течение слились, перемешались. Больше того, он умеет видеть коренное, вечное под обманчивым обличьем сиюминутного. Что такое герой нашумевшей повести «Предтеча»? Модная игрушка городских полуинтеллигентов, не знающих, чем занять и утешить пустые и пугливые души? Или одетая в плоть квинтэссенция идей, «противостоящих технократическому и сциентистскому оптимизму» (так несколько витиевато, но по существу точно формулирует Алла Латынина самую длинную мысль «Предтечи».)
Ну а если копнуть поглубже? Не разглядим ли мы в этом странно-страшном старике еще и вековечный тип русского самородного таланта, а может быть, и вообще всякого дароносителя? Не того, конечно, что развивается, поддерживаемый и подпитываемый культурной грядкой, но того, что, словно диковинный цветок, беззаконно и безвременно вымахивает на забитом бытовыми отходами пустыре, чтобы тут же и сломаться под тяжестью своего чудо-венчика, ни в одном из определителей не числящегося?
А антилидер? Куренков? Смотрите, как точно вписывает его Аннинский в наше сверхсегодня, в одну соцграфу с распутинскими архаровцами заносит: «Ненависть ко всему, что хоть на волос выдается из ряда, поднимается над безличием: высовывается из общего „как все“… При всей выделанности этой блистательно просчитанной модели поведения мы чувствуем, как она реальна, и мы знаем, из какой невыдуманной барачной мглы вынесен этот опыт, этот почти биологический импульс…»
Все так… вроде бы так… Но почему же в барачной сей мгле ясно и четко просматривается зловещая фигура и еще одного антилидера — убийцы Лермонтова Николая Мартынова? А ведь он-то не из породы булгаковских «шариковых» (вспомните «Собачье сердце») и не из «ко всему привычных» «поселковых», а между тем похоже, что там, вдали, у подножия Машука, тот же самый «почти биологический импульс» «сработал»!
Вспомним и споры о рассказе «Гражданин убегающий». Самую емкую характеристику дал ему все тот же Лев Аннинский: и первопроходец может оказаться прохожим, а то и проходимцем. Но нет ли в поведении маканинского первопроходца, хищными ноздрями втягивающего запахи нетронутых пустых мест, некоего особого генетического коленца, этакого хромосомного корешка, уходящего в глубины российской истории? Откроем томик В. О. Ключевского:
«Наша история открывается тем явлением, что восточная ветвь славянства, потом разросшаяся в русский народ, вступает на русскую равнину из одного ее угла, с юго-запада… В продолжение многих веков этого славянского населения было далеко не достаточно, чтобы сплошь с некоторой равномерностью занять всю равнину… Оно распространялось по равнине не постепенно путем нарождения, не расселяясь, а переселяясь, переносилось птичьими перелетами из края в край, покидая насиженные места и садясь на новые». И далее: «История России есть история страны, которая колонизируется» 2.
Нет, нет, ни «дорогоманией», ни вульгарными житейскими резонами (мол, поскольку не жалко лаптей, убегаем от жены и от детей) снедающую Павла Алексеевича страсть к переселению из края в край, и все в том же — веками заданном восточном направлении («нужно было двигать куда-то восточнее, в самую глушь»), и все теми же птичьими перелетами, — пожалуй что и не объяснишь. Из каких же темных историко-генетических глубин-далей кричит в его почти умершей плоти это: «Но нельзя ли подальше? Дальше, ребята… Как можно дальше»?
Читать дальше