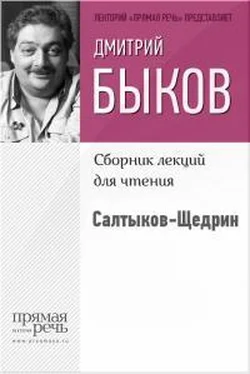1 ...6 7 8 10 11 12 ...15 Правда:Это оттого, свинья, что когда природа создавала тебя, то, создаваючи, приговаривала: не видать тебе, свинья, солнца красного! Свинья:Ой ли? (Авторитетно.) А по-моему, так все эти солнцы – одно лжеучение… ась?
Правда безмолвствует и сконфуженно поправляет лохмотья. В публике раздаются голоса: правда твоя, свинья! лжеучения! лжеучения!
Свинья(продолжает кобениться): Правда ли, будто в газетах печатают: свобода-де есть драгоценнейшее достояние человеческих обществ?
Правда:Правда, свинья.
Свинья:А по-моему, так и без того у нас свободы по горло. Вот я безотлучно в хлеву живу – и горюшка мало! Что мне! Хочу – рылом в корыто уткнусь, хочу – в навозе кувыркаюсь… какой еще свободы нужно!
И кончается этот разговор так:
Свинья. Нечего мне «свиньей» – то в рыло тыкать. Знаю я и сама, что свинья. Я – Свинья, а ты – Правда… (Хрюканье свиньи звучит иронией.) А ну-тко, свинья, погложи-ка правду! (Начинает чавкать. К публике.) Любо, что ли, молодцы?
Правда корчится от боли. Публика приходит в неистовство. Слышится со всех сторон: Любо! Нажимай, свинья, нажимай! Гложи ее! чавкай! Ишь ведь, распостылая, еще разговаривать вздумала!
Что это за аллегория? Речь, конечно, идет уже не о царизме. Да и плевать уже было тогда Щедрину на царизм. Свинья, корень зла в которой он так успешно обнаружил, – это те самые 90 % населения, у которых нет возможности поднять голову, нет возможности взглянуть в небо и увидеть солнышко. Это не мещанин, это не обыватель даже. Это – норма. Это мы, если угодно. Это все, кроме тех, у кого хватает еще кое-какой силы робко прошептать: «Корень зла в тебе, свинья». Это страшная аллегория, исполненная самоненависти, а вовсе не упреков окружающим.
И эта-то самоненависть его и сожрала. К 63-м годам, в момент работы над последним и, может быть, главным его сочинением, которое называлось «Забытые слова». Сам он объяснял замысел этот очень просто. Сейчас много слов, которые никто уже и не помнит. Никто не помнит, что такое «совесть». Никто не помнит, что такое «жертва». И уж вовсе никто не помнит Бога.
И это была попытка хоть как-то напомнить слова, а потом, как знать, и мысли, А потом, как знать, и поступки. За этой работой как раз смерть его и застала. Но умер он не от одной из бесчисленных своих хворей, не от артрита, который, как он писал, его слишком мучил, и не от порока сердца, умер он от апоплексического удара, от инсульта, и, к счастью, без мучений. Единственное, в чем ему повезло. Удар случился накануне. После этого сутки он прожил без сознания. И умер.
Самое удивительное здесь то, что современники почти этой смерти не заметили. 1889 год. Время, когда казалось, что все замерло. Что никогда не будет иначе. Когда писал сам Салтыков-Щедрин: «Время стало пестрое». Пестрое, потому что в нем не осталось никакой единой краски. Все раздробилось. Каждый против каждого. А на самом деле, как писал он тогда же, «все – одно». И что такое это «одно», мы понимаем.
Пожалуй, только Куприн в «Исполинах» воскресил его и понял. Там, собственно, история, когда пьяный учитель гимназии расставляет перед собой портреты Пушкина, Гоголя, Некрасова и начинает им всем выставлять оценки. А учитель гимназии это как раз фигура из «Губернских очерков» самого Салтыкова-Щедрина, и все будущие гимназические безумцы, и будущий Передонов Сологуба – все уже в «Губернских очерках» представлены. Так вот, потом у Куприна учитель вдруг замечает чей-то направленный на него из-за угла пронзительный страшный взгляд. И ему чудится, что уста на одном портрете разомкнулись и произнесли такое слово, которого он не мог бы себе вообразить в устах ни одного из русских классиков. И после этого утром, проснувшись в ужасе, он берет портрет Салтыкова-Щедрина и уносит его в самый укромный уголок квартиры. Потому что ему под этим взглядом страшно.
И вот мне думается, что каким бы жестоким, каким бы экспансивным и импульсивным, каким бы зачастую несправедливым к себе и к нам ни был Салтыков-Щедрин, то, что под его взглядом страшно, – это хорошо. Потому что есть у нас основания для больной совести или нет, а все-таки иметь больную совесть лучше, чем иметь спокойную. Каковы бы ни были иллюзии этого человека, каковы бы ни были его перехлесты, каковы бы ни были его желчные временами обобщения относительно братьев-литераторов, он нам завещал главное – ему было от всего невыносимо. И это настолько лучше, чем лоснящаяся свинья, что, пожалуй, стоит иногда перечитывать этот довольно тяжелый, довольно печальный и, в общем, великий массив из двадцати коричневых томов.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу