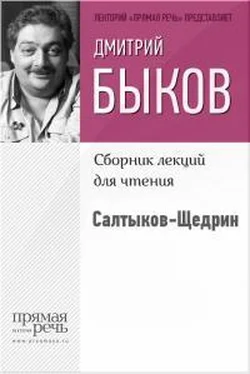И в «Современной идиллии», и в «Благонамеренных речах», и в «Господах Молчалиных» проходит самая страшная мысль – вот эта жизнь в захваченном государстве, а термин «варяги» появляется уже у него, как ни странно, эта жизнь ужасна не только тем, что она развращает захватчиков, она ужасна тем, что она развращает захваченных. И в книге «За рубежом», вероятно, самой горькой из того, что Щедрин написал, появляется чудовищный диалог, вечно вызывающий гомерический хохот, – «Мальчик в штанах и мальчик без штанов».
Так вот этот разговор немца, мальчика в штанах, с русским мальчиком без штанов, который на протяжении всего разговора не выходит из лужи, – это знак страшного разочарования в обеих мировых системах. Разочарования, конечно, религиозного. Запад далеко отошел от Бога, а русские и не знали его никогда. Вот это тот ужас, который позднего Щедрина переполняет.
О том, чем он болел, кстати говоря, в русской историографии нет сколь-нибудь конкретного ответа. Дело в том, что Щедрин жаловался на болезни начиная с пятилетнего возраста. Так он сильно, видимо, нравственно страдал. Но, как ни странно, он действительно был болен. Просто, как большинство людей, живущих духом, живущих мозгом, он, по всей видимости, сильнее зависел от умственной своей жизни, чем обычные наши сограждане. Он воспринимал свою душевную боль как физическую. Это можно сказать и о Блоке. Как ни странно, это можно сказать и о Ленине. Вот о Толстом нельзя. Потому что толстовская жизнь, скорее, наоборот, была всегда невероятно физиологична. И поэтому Софья Андреевна Толстая с горечью жаловалась в дневнике: «Левочка совсем не верит, что может быть тоска. Он полагает, что это всегда от желудка». И действительно, он на личном опыте, должно быть, это знал. Вот человек, вся жизнь которого, особенно умственная, была детерминирована жизнью телесной. И совершенно правильно говорил Чехов о том, что «Крейцерова соната» с ее проповедью безбрачия продиктована исключительно старческой невозможностью долее размножаться – ничего другого за этим нет.
Но вот если Толстой был физиологичен, то Щедрин был в телесной своей жизни невероятно духовен. Его постоянная боль за Россию была именно физической, все помнят единственные сохранившиеся поздние фотографии, эти страшные белые глаза на узком лице, жуткие, выкаченные, как будто его распирает изнутри отчаяние, пронзительный этот взгляд, от которого не спрячешься, взгляд, тем же Куприным описанный в рассказе про учителя гимназии, к которому мы вернемся в финале. Так вот, все эти хвори, которые его так страшно разрывали на части, заставляли его беспрерывно обращаться к лекарям. И один из его друзей, врач, кажется, Белоголовцев, хотя сейчас не уверен, записал: «Пожалуй, он, действительно, болен. У него нет ни одного здорового органа. Но чем он болен – сказать решительно невозможно. Есть эмфизема от долгого курения и порок сердца врожденный. И, собственно, все».
Но Салтыков-Щедрин ведь жаловался на совершенно другое, он жаловался, что каждое движение причиняет ему боль. Жаловался на припадки ипохондрии. И на разлад в семье. На клевету литераторов, которые никак не желали достаточно глубоко его прочесть и понять. И это верно. Потому что понимали его, как правило, чрезвычайно примитивно. А аллегории его, весьма сложные и глубокие, всегда встречали категорический отпор. Всем казалось, что это слишком зашифровано и недостаточно храбро.
А ведь давайте зададимся простым вопросом: зачем, в сущности, было так глубоко шифровать? Ведь читатель все знает, о чем написано. И писатель все знает. И все они перемигиваются. Зачем нужна эзопова речь? Чтобы рассказать правду? Но эту правду все знают. Чтобы показать свою смелость? Но это жалкое желание не стоит таких усилий.
Салтыков-Щедрин не зашифровывал. Салтыков-Щедрин обобщал, пытаясь доискаться до корня, до матрицы той истории, которую мы в результате получили. Это не попытка шифровки. Это попытка максимальной типизации. Максимального обобщения. И нужно сказать, что большинство его обобщений работают до сих пор.
А шифров-то особых там и нет. Все очень понятно. Как, например, в диалоге «Торжествующая свинья, или разговор свиньи с правдою». Свинья, которая находится в хлеву, и шкура ее лоснится от хлевной жидкости, устраивает правде допрос.
Свинья(кобенится): Правда ли, сказывают, на небе-де солнышко светит? Правда:Правда, свинья.
Свинья:Так ли, полно? Никаких я солнцев, живучи в хлеву, словно не видывала?
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу