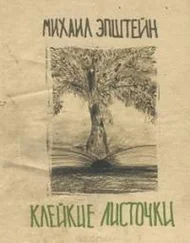Ницшевское «Бог умер» — совсем не то же самое, что стереотипно–атеистическое «бога не существует». Если Бог умер, значит, Он когда–то был жив, а следовательно, может и воскреснуть, тогда как несуществующий бог (именно так, с маленькой буквы, как писалось это слово в советское время) не может ни жить, ни умирать, ни воскресать. Таково различие между живым богоборчеством Ницше и безбожием марксистско–ленинского толка, которое просто не признает существования Бога. Богоборчество заостряет религиозную проблему, а безбожие устраняет ее.
Действительно, сама идея страдания и смерти Бога содержит в себе религиозный подтекст, очевидный как христианам, так и язычникам. Уже впадая в безумие, Ницше подписывался под своими последними письмами то как «Дионис», то как «Распятый». Своей философией он хотел послужить экстатическому Дионису и противопоставлял его «безжизненному» Христу. Но в момент то ли безумия, то ли последнего прозрения оказалось, что это взаимозаменяемые имена, — и сам Ницше, по сути, стал фигурой их взаимопревращения. Распятый и воскресший оказался Богом жизнеобильным и животворящим, богом–виночерпием, как, собственно, и сам Христос в Кане Галилейской, в первом совершенном им чуде — превращении воды в вино, которым предвосхищено было последнее и наивысшее чудо: превращение смерти в жизнь. Христос — Дионис вечной жизни. Так Ницше, проповедник Жизни, стал не только строительной жертвой атеизма XX в., но и предтечей нового, постатеистического христианства.
Ницшевская критика христианства столь же одностороння, как христианская критика Ницше. Христианство гораздо ближе Ницше по духу, чем он сам думал и допускал. А Ницше гораздо ближе по духу христианству, чем допускают многие из тех, кто считает себя христианами.
Славой Жижек в своей книге «Болящий Бог: Инверсии Апокалипсиса» показывает, что именно христианство воплощает языческую мечту о безмятежной радости, тогда как само язычество исполнено страхов перед богами и уныния перед лицом смерти: «Умонастроение язычества глубоко меланхолично: даже если оно проповедует жизнь, полную удовольствий, все равно над этим витает девиз «наслаждайся, пока есть время, потому что в конце тебя всегда ждет смерть и распад“. Смысл христианства, напротив, бесконечная радость за обманчивой поверхностью вины и отречения». [10] Slavoi Žižek and Boris Gunjević. God in Pain: Inversions of Apocalypse. New York, 2012. Р. 36. Жижек ссылается на Честертона, с его апологией веселого христианства: «Внешняя его сторона — строгая стража этических ограничений и профессиональных священников; но внутри жизнь человеческая пляшет, как дитя, и пьет вино, как мужчина, ибо лишь ограда христианства сберегает языческую свободу» (Г. — К. Честертон. Цит. соч. http://www.chesterton.ru/orthodoxy/chapter09.html).
Кажется, что в христианстве есть непоследовательность. Если высшая цель — Царство Небесное, то стоит ли заботиться о жизни земной, о здоровье, сытости, нарядах, имуществе? Об этом и говорится во многих поучениях Иисуса: не накопляйте сокровищ, не заботьтесь об одежде, отбросьте попечение о завтрашнем дне… Цель — спасение души, в жертву которому нужно принести всякое земное благополучие, и вообще «царство Мое не от мира сего». А между тем главные чудеса Иисус совершает, исцеляя больных, насыщая голодных, оделяя, делясь, то есть заботясь именно о здоровье и сытости. То же самое противоречие и в жизни христиан, в их молитвах. С одной стороны, «не уповай, душа моя, на телесное здравие и на скоромимоходящую красоту» («Три канона»). А вместе с тем молятся о здравии своем и ближних, о хлебе насущном, об избавлении от врагов и злых обстояний, то есть о мирском благополучии. Нет ли здесь двоемыслия?
Но суть в том, что и здоровье в этой жизни, и спасение в той — это одно и то же: способы выживания личности, ее неуничтожимости. Вот почему молитвы за здравие тела и за спасение души не противоречат друг другу, это одна молитва: Господи, даруй мне вечную жизнь, которой нет без Тебя. Даруй мне жизнь иную, как Ты подарил мне эту жизнь. Христианская весть — именно преемственность земной и небесной жизни, усиление жизненности как таковой в ее возрастающем торжестве и победе над смертью.
Конечно, Небесное Царствие дальше отстоит от живущих, чем земное, поэтому и приходится постоянно напоминать о том, что нужно поступиться чем–то в жизни временной, чтобы обрести жизнь вечную. Евангелие озабочено тем, чтобы правильно выстроить перспективу, и поэтому ставит главный акцент на «жизни будущего века», несколько принижая ценности этой жизни, которые и без того значимы для нас, поскольку мы еще здесь, а не там. Но это та же самая жизнь, досмертная и посмертная, и стремление к бессмертию не исключает, а предполагает здоровье, радость, красоту, изобилие здесь, на земле. Поэтому ницшевская антихристианская философия жизни вполне вписывается в более объемную теологию Жизни, которая сложилась в христианстве.
Читать дальше