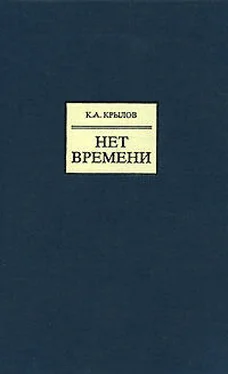Вернёмся всё к той же картине Мадонны с шариком говна на плече. Автор (англичанин нигерийского происхождения) объяснял дело так, что слоновий навоз может быть вполне почитаемым в некоторых обществах. На обычаи родины он, правда, благоразумно не ссылался (хотя Мадонну изобразил именно чёрной): это была сознательная симуляция «изображения, сделанного дикарями» и в силу якобы случайных факторов отвратительная для «образованных белых». То есть — симуляция конфликта культур (одна из которых была вымышленной, придуманной художником). Напротив того, в случае с террористической атакой на Нью-Йорк конфликт культур был абсолютно реальным и попытка представить его как «художественный акт» вызывала бурю гнева.
Мораль — это вопрос масштаба. То, что кажется «хорошим» или «плохим» вблизи, с точки зрения чуть более отдалённой является всего лишь «интересным» или «неинтересным», а sub specie aeternitatis всё вообще однохренственно в равной мере.
Впрочем, некоторые остатки былого противостояния «пролетариата» и «буржуазии» всё же сохраняются. Как правило, в киберпанковских произведениях «дно» хакерского мира — это знатоки «железа», то есть «материи», ищущие «низкоуровневые» дырки в защите. Напротив, их (условные) противники — это владельцы данных и «высокоуровневого» софта.
Для историка философии это очень знакомая картина. По сути дела, это картина мира, принятая в Санкхья-Йоге, где Сеть играет роль Пракрити. Уместны тут и и гностические параллели, на которых я сейчас останавливаться не буду.
Вообще говоря, история XX века определяется в наибольшей степени именно появлением СМИ, а не чем-либо иным. XX век — это прежде всего век радио и телевидения, а уж потом — век «Бомбы» или «Космоса». (Например, радио сделало возможным социализм и фашизм, а телевидение создало «общество потребления»). Надо сказать, что нынешние СМИ — это явление, по сути дела, переходное (от «печати» к «киберпространству»), а потому и XX век, скорее всего, войдёт в историю как уникальное время.
Те же интонации — в предисловии к русскоязычному изданию, где Забужко всласть оттопталась по «собачьей мове»: как она «не понимает» русского языка и насколько он ей чужд.
На роль такового последовательно предлагается целый ряд исторических событий, заканчивающийся обычно «голодомором» (согласно националистической мифологии, специально подстроенным «большевиствующими» москалями).
Оборотной стороной идеи «страдательного прошлого» Украины является проект её активной, то есть агрессивной, будущности. Соответственно Украина примеривает на себя роль «условной России» (разумеется, не реальной страны, а «проклятой Москалии» украинского «страдательного мифа»). Украина мыслится как «сильная держава», способная на насилие и принуждение, — прежде всего, разумеется, по отношению к своим бывшим обидчикам. Напротив, соседним странам (и прежде всего России) предлагается роль «бывшей Украины» — то есть доминируемого, завоёвываемого региона, в конечном итоге ассимилируемого и украинизируемого. Украинская мечта в таком виде выглядит как зеркально перевёрнутая «украинская беда». Обычно эти идеи развиваются в виде более или менее бредовых экспансионистских проектов, направленных прежде всего на север. В частности, очень популярными являются идеи распада/расчленения России, с последующей делёжкой бывшей российской территории между заинтересованными державами. Впрочем, эта тематика уже выходит за рамки статьи.
Про ту же Забужку ходит забавная байка — как она встречалась в Иосифом Бродским. По легенде, нагловатая хохлушка отловила Бродского на каком-то западном литературном мероприятии и сама представилась, особо напирая на то, что она «важная украинская персона». Старый Бродский поднял тонкую бровь и с барской ленцой осведомился — «Украина? Это где?»
Статья была написана в 2002 году, задолго до «оранжевой революции» и связанных с ней событий. — Примечание 2005 года.
Это связано с позицией составителей сборника — В.С. Малахова и В.А. Тишкова. Последний, в частности, известен как автор статьи с вызывающим названием «Забыть о нации» («Этнографическое обозрение». 1998. № 5).
Классическая триада, через которую проходят любые утверждения о «социальном», особенно же о «социальном неблагополучии»: объяснение предлагают эксперты (социологи, этнологи и прочие обладатели дипломов), понимание (то есть согласие с некоторыми объяснениями) демонстрирует общество (в лице влиятельных общественных организаций и СМИ), действовать («принимать меры») предоставляется государству.
Читать дальше