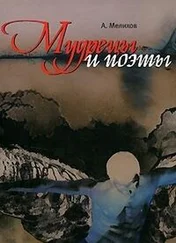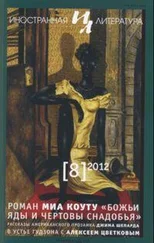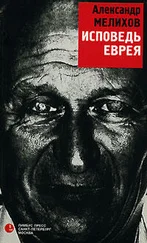Солженицын вообще старается согласиться с Жаботинским где только может. Жаботинский (с.457): “Кто мы такие, чтобы перед ними
(русскими. – А.М.) оправдываться? кто они такие, чтобы нас допрашивать?” Солженицын: “И эту последнюю формулировку можно в полноте уважать. Но – с обоесторонним применением. Тем более ни одной нации или вере не дано судить другую” (Означают ли эти слова неправомочность Нюрнбергского и Гаагского трибунала? Или группа наций все же обретает какие-то дополнительные права? Но это так, в скобках.)
С влюбленностью свинопаса, естественно, сочетались и не столь самоотверженные чувства (В. Мандель, с.453-454): в предреволюционные десятилетия не только “русское правительство… окончательно зачислило еврейский народ во враги отечества”, но “хуже того было, что многие еврейские политики зачислили и самих себя в такие враги, ожесточив свои сердца и перестав различать между “правительством” и отечеством
– Россией… Равнодушие еврейских масс и еврейских лидеров к судьбам
Великой России было роковой политической ошибкой”. Ну, с масс-то взять нечего – их удел жить либо буднями, либо фантомами, а вот лидеры… Это именно их первейшая задача – канализировать преданность фантомам в берега прагматики.
В итоге еще один авторитетный еврейский наблюдатель Г.Ландау (с.454) отмечает “мучительную двойственность” (выражение Солженицына) еврейской натуры: “Влюбленность в ненавидимую среду”. “Из этого же истекал, – подхватывает Солженицын, – более сложный вопрос: могли ли интересы государственной России в полном объеме и глубине – стать для них сердечно близки?”
“Сложный вопрос” – подумаешь, бином Ньютона! Да, разумеется же, нет.
Несовпадение фантомов неизбежно ведет и к несовпадению целей. Но в данном случае – это могло быть всего лишь различием приоритетов внутри общей программы. Больше того, при отправлении подавляющего большинства общественных функций и вообще требуется не больше государственного патриотизма, чем для повседневной деятельности сантехника, – для них вполне довольно простой добропорядочности и профессионализма, – в этих качествах еврейскому мещанству отказывают уже только параноики. Да и еврейские мошенники не поражают воображение своим бесстыдством в сравнении с мошенниками русскими – и те и другие останавливаются лишь перед физической невозможностью.
Но в развитых странах, которые дореволюционная Россия догоняла семимильными шагами, еврейская криминальная изобретательность не составляет заметной проблемы, а кроме того – были бы дырки в заборе, а свиньи будут, – этот закон универсален для всех времен и народов.
(Заборы же строит и ставит часовых к дыркам, как правило, коренное население…) Но зато уж мошенники никак не могут быть агентами еврейского влияния: им плевать на все народы.
И даже равнодушие евреев к международному престижу России в принципе могло послужить ей на пользу – в качестве тормоза против военных авантюр: тех ужасов Первой Мировой, в которые ввергло Россию патриотическое правительство, не могло бы измыслить наичернейшее антирусское воображение. Поэтому ни-откуда не следует, что космополитический рационализм опаснее кипучего патриотизма: именно страсть, а не расчетливость порождает наиболее губительные безумства. Оскорбленная любовь к родине была мощнейшими дрожжами гитлеризма…
Для реальных интересов подавляющего большинства евреев революция была уж никак не менее опасна, чем для подавляющего большинства русских. Фантомы, или, если хотите, мечты и ценности “идишизма” или
“сионизма” тоже вполне могли сожительствовать с русским патриотизмом
– каждая сторона могла наслаждаться своей Дульсинеей, втихомолку посмеиваясь над уродиной соседа. (Более сильный более громко, более слабый более ядовито.) Фантомы-то, конечно, примирить труднее всего.
“Всякий народ до тех пор только и народ… пока верует в то, что своим
Богом победит и изгонит из мира всех остальных богов”, – эти слова
Достоевского, возможно, и до сих пор выражают мироощущение младенческого ядра любого народа. Но, к счастью, в начале ХХ века даже младенцы – по крайней мере, младенцы западного мира – в большинстве своем победу и изгнание чужих богов уже понимали не в военном смысле, – равно как и сегодняшние младенцы ищут побед не на поле брани (разве что газетной), а в области балета, спорта, космоса, мод, машиностроения и сельского хозяйства, международного престижа, качества жизни и государственного управления: то есть и они преданы своим фантомам не до полной осатанелости.
Читать дальше