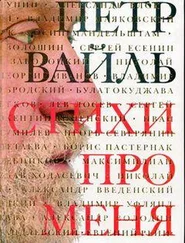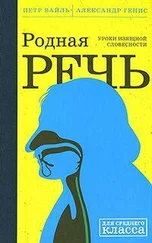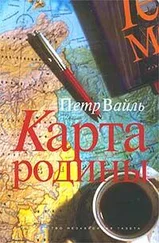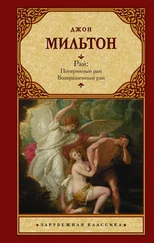Там за красную икру
Девушки вам "ай лав ю".
Настоящему матерому эмигранту не нравится Америка, как раньше не понравился Израиль, а еще прежде невыносима была Россия. И вот он поет песни, не заслуживающие забвения.
А кругом миллионеры —
Денег куры не клюют.
Между ними, как шакалы,
Люди бедные снуют.
И брожу я одиноко,
Впереди большой Бродвей.
Кто-то ездит на "Ролле-Рейсах",
Я же прыгаю в сабвей.
Очень часто, очень часто
Задаю себе вопрос:
"Отчего, не понимаю,
Черт меня сюда принес?"
И сидящие в кабаке подвыпившие мужики стучат кулаками по столу и кричат: "Во, врезал!!! Все точно!" Хотя они-то снуют вовсе не как шакалы и именно потому сидят в кабаке, но им все равно нравится песня, потому что положительный взгляд на мир имеет только дурак, а они знают почем фунт лиха.
Когда приехал, разобрался очень быстро:
За корку хлеба здесь приходится пахать…
Здесь хорошо живут банкиры и министры,
И здесь любому на любого начихать.
Я прихожу домой усталый и разбитый
И прям в одежде я валюся на кровать.
А завтра снова для капризных паразитов
Мне спозаранку — будь я проклятый — вставать.
Здесь все слова понятны и виден враг. Петь песни про Андропова глупо — он далеко, а капризные паразиты — рядом. Таким образом, сохраняется ощущение участи в социальном протесте — то есть то, к чему привыкли за много лет прежней жизни.
Это, наверное, особого рода ностальгия — не по тому, что было, а по тому, что должно было быть, если б не валять дурака и не притворяться прогрессистом и интеллигентом. И здешняя русская радиопередача, на 90 процентов состояшая из советских грамзаписей — тоже ностальгическая. Чем же может всколыхнуть она душу эмигранта? Оперными ариями, старинными романсами, наконец? Да нет: и там неувядаемый, бессмертный, вездесущий Горовец:
Люблю я макароны!..
На третий день после приезда в Америку мы отправились с визитом к земляку, шапочно знакомому по прежней жизни. Феликс жил в Нью-Йорке уже год, полгода водил такси и был американцем не хуже Авраама Линкольна. Задев локтем за стол, он процедил сквозь зубы: "А, шит!", наорал на жену за отсутствие на столе льда и поразил наше воображение, презрительно отозвавшись о гамбургерах. Феликсу нужно было спуститься к машине и он сказал: "Включите пока телевизор".
Про телевизор нам все рассказали еще в Италии, и мы страшно боялись его. Щелкая, мы добрались до нейтрального диктора и осторожно повернули ручку громкости. Прошла минута, другая, третья… Мы переглянулись, готовые заплакать. В конце концов, мы читали по-английски Хемингуэя, два раза поели самостоятельно в «Макдональде», в ХИАСе все говорили нам "экселент инглиш". А тут… В это время из кухни вышла жена Феликса и сказала: "Зачем вы включили испанский канал?" С тех пор у нас появились знакомые американские интеллигенты, которых мы изумляем пристрастием к их литературе и водке «стрейт». Мы регулярно покупаем "Нью-Йорк тайме", смеемся шуткам Бенни Хилла и один раз даже выступали по телевидению сами. В баре, куда мы ходим играть на биллиарде, всегда сидит наш приятель — настоящий американец. Его зовут Луис Оралес Плата-и-Фигероа, у него на углу прачечная. Однажды в метро мы познакомились с двумя девушками и провели с ними целую ночь, беседуя о преимуществах демократии над тоталитаризмом.
И все же никогда. Нигде. Ни одни из нас. Не может быть уверен в том, что ему дадут именно тот сорт сигарет, который он спрашивает.
Эта проблема не дает эмигранту закоснеть в относительном экономическом и производственном благополучии. С языком происходит что-то трагическое и загадочное. Сколько ни изучай фонетику и грамматику, никогда нельзя быть уверенным в том, что тебя поймут таксисты и официанты. Мы заключали между собой пари на произношение слов "хот шоколад" и насчитывали пятнадцать вариантов звучания этой нехитрой комбинации, но каждый раз выбранный вариант официанта не устраивал. Все мы приезжали с твердой уверенностью в своих лингвистических талантах, все отказывались поначалу от чтения русских книг и газет, охотно и невпопад употребляли слова "ай си", "донт ворри" и «фак», по телевизору смотрели даже утреннюю молитву и гордились беседой с супером.
Но схватка с «th» оказалась неравной, и большинство эмигрантов отступилось довольно быстро: выписали русские газеты, ходят на русские фильмы, американцев за незнание русского не уважают. Английская артикуляционная система, и в самом деле, совершенно не приспособлена к русской речи и слуху. Понятно, что советская школа и даже институт не объяснят идиомы Шекспира и Фолкнера. Но странно, что за месяцы "римских каникул" даже бабушки из Кишинева научились сносно торговаться по-итальянски. Отправившись в отпуск в Испанию, мы довольно бойко объяснялись уже через неделю. Есть что-то особенно коварное в английском, какая-то ни за что не уловимая суть. Один американский лингвист предложил классификацию языков — не по происхождению, как обычно, а по понятийным категориям. Например, у некоторых индейских племен нет слова «послезавтра»: они не заглядывают так далеко в будущее. Австралийские аборигены не знают местоимения «я» — только «мы». То есть язык отражает специфику национального сознания. Вот, похоже, что у нас очень разная специфика.
Читать дальше